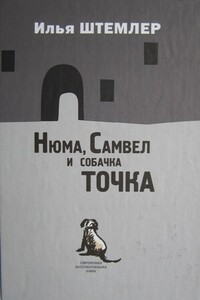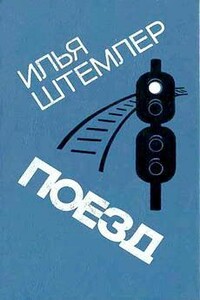Возвращение долга. Страницы воспоминаний | страница 70
Много лет спустя, в девяносто четвертом, накануне Международного женского дня – что весьма символично – Михаил Михайлович пригласил меня на свой шестидесятилетний юбилей. Жванецкий праздновал его широко, с размахом, с раздачей всем гостям подарка: плоской фляги водки с изображением на этикетке личного портрета с непременными двумя хрустальными фужерами в прозрачной коробке. Веселье билось о чопорные стены Дворца молодежи, где, казалось, собралась вся Москва. Веселье плескалось в высоченный потолок, подобно волнам Черного моря. Прибой окатывал и членов правительства – министра иностранных дел Козырева, тогдашнего властителя дум интеллигенции Гайдара, мэра Лужкова, читавшего свои стихи, – и множество «звезд» – артистов, писателей, журналистов… Выступил и я, с текстом «под Жванецкого». Накануне, в Переделкине, я прочел этот текст Леониду Лиходееву и автору «всех сценариев советского кино» Толе Гребневу. Апробация прошла успешно. Но все равно я волновался: огромный зал Дворца молодежи – это не тихие кельи Дома творчества писателей в Переделкине. И еще рядом Саша Ширвиндт, ведущий вечера, шипит в ухо: «Пора за стол, читай быстрее. Или они сейчас тебя разорвут и съедят». Но мне удалось дойти до конца своего текста, сорвать аплодисменты и даже удостоиться объятия почитаемого мною мудрого Зямы Гердта… Позже, во время застолья, я пробился к Жванецкому. «А помнишь, ты говорил, что все уезжают, что впереди море, а сзади подпирают?» – сказал я хмельному Михаилу Михайловичу. «А ты представляешь, сколько бы здесь собралось народу, если бы впереди не было моря?» – ответил он. «И все-таки!» – настаивал я. «Подросли, – ответил он. – Столько прошло времени с тех пор. Подросли!»
Нелегко покидать Родину, нелегко начинать новую жизнь. Но жить на полусогнутых, чувствовать себя человеком второго сорта еще горше. Об этом состоянии нельзя судить со стороны, его надо испытать. Последние события в Чечне, на Украине, в Прибалтике, увы, явились для многих россиян горьким примером таких испытаний на собственной шкуре. Меня это рвущее душу состояние как-то миновало – вернее, я находил упоение в сопротивлении ему. Сознание мое пронизывала гордость за все испытания, пройденные моим народом, гордость за все, что привнес мой народ в мировую культуру, науку, религию. И это сознание, сиюминутно негодуя на какую-то обиду, по истечении времени успокаивалось, я мог жить в любом обществе, как в крепости. Со стороны порой подобное выглядело высокомерием. Друзья не понимали – как можно жить среди тех, кто тебя презирает. Можно! Даже интересно. Кроме того, у меня была нора – бумага и перо. Такого щита не было у моей дочери. Именно от любви к ней я не только согласился с ее эмиграцией, но и всячески способствовал ей. Открыто, эпатажно, с гусарской безоглядностью. Выглядеть в глазах дочери рыцарем в те непростые дни было для меня вопросом чести. Думаю, что немногие вели себя подобным образом при тех обстоятельствах. Боялся и я. Но уронить себя в глазах близких людей для меня было страшнее страха…