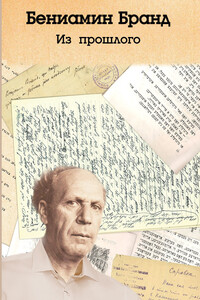Лев Толстой — провидец, педагог, проповедник | страница 28
Благоприятные условия развития отечественного педагогического толстоведения подготовлены самим ходом развития наук о человеке, деятельностной теорией учения, серьезной критикой рассудочно-эмпирической теории мышления в трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Ж. Пиаже, В. В. Давыдова, Э. Ильенкова и др. Содержание работ этих авторов позволило по-новому, более реалистично оценить философию и логику Гегеля и заимствование или отрицание Толстым ряда положений этого философа. Эпоха, побудившая Толстого в 1860-е годы обосновать в педагогических статьях принцип «опыт и свобода» и основные положения теории деятельности применительно к пониманию обучения, воспитания и развития («Закон движения вперед образования»), создала теоретические предпосылки необходимости гуманистической парадигмы образования уже во второй половине XIX столетия.
Для писателя это был спор не просто о качестве методической литературы, а вопрос более глубокий — о целях и задачах народной школы, об отупляющих методиках обучения, об отсутствии душевно-духовного развития учащихся в ходе обучения и воспитания, об изменении в целом взгляда на организацию народного образования. Толстой настойчиво двигался в уяснении оснований педагогики. В понимании Толстого не философских, а онтологических в новой педагогике жизни. В 1870-е годы начиналась подспудная работа — поиск смысла жизни; а «философские дрожжи» — встреча и беседа с философом Вл. Соловьевым — способствовали этому.
Толстой вступал в новый период жизни, связанный с созданием религиозно-нравственного учения или «науки жизни» и необходимостью обоснования онтологических основ как педагогики, так и «науки жизни».
Проведенное автором этих строк исследование подтвердило выдвинутую первоначально гипотезу о перерастании критики Толстым западноевропейской педагогической науки в гуманитарную экспертизу наук о человеке, культуре, образовании, которую еще предстоит глубоко осмыслить.
Сейчас уже можно утверждать, что спор писателя с немецкой педагогикой середины XIX в. перерос в спор с окружающей нас педагогической реальностью, которая нуждается в таком добром друге, как Толстой. Можно ли поставить точку в этом споре?
Думаю, что молодое поколение исследователей откроет новые ракурсы проблемы, нам пока неведомые, а педагоги-практики с большим вниманием отнесутся к педагогическому наследию Толстого.
В педагогических статьях Толстого немало высказываний о методах педагогики как науки. Он мастерски владел методом педагогического наблюдения во время уроков, игр, совместных прогулок и превосходно знал, как дети ведут себя дома. Глубокое проникновение в духовный мир детей помогало писателю-педагогу безошибочно применять те или иные способы воздействия на учащихся. Но особенно большое значение он придавал педагогическому эксперименту в исследовании педагогических и методических проблем. Будучи педагогом-новатором, Толстой рассматривал Яснополянскую школу как педагогическую лабораторию, в которой он стремился разработать наиболее эффективные методы преподавания. Толстой, по справедливости, может считаться одним из тех русских педагогов, кто положил начало экспериментальной работе в условиях повседневных школьных занятий, что характерно в наши дни для практико-ориентированной педагогики.