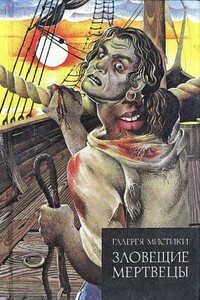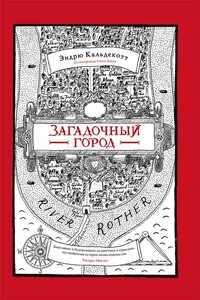Танцующий на воде | страница 34
На подступах к ипподрому Аделина была спасена неким джентльменом. Тот мигом оценил положение вещей – протянув Мэйнарду руку для пожатия, подхватил Аделину и скрылся вместе с нею. Мэйнард мешкал, буравил взглядом жокейский клуб, куда спешили комильфо; некогда Мэйнард и сам был вхож в эти райские врата, а затем бесцеремонно изгнан. Аделина исчезла, и я смог приблизиться. Потерянность и тоска в Мэйнардовых глазах потрясли меня. В прежние времена Мэйнарда если и не привечали в клубе, то по крайней мере терпели, а сейчас… Мэйнард перевел взгляд на дамские трибуны (устроенные отдельно, чтобы дамы могли наслаждаться скачками, не страдая от громких выкриков о ставках, от сигарного дыма и от грубых мужских разговоров), и потерянность с тоской пополнились новым чувством – унижением. Ибо в этом цветнике находилась Коррина Куинн, определенно ничуть не страдавшая от статуса Мэйнардовой нареченной невесты. Мэйнард сник. Скоро, очень скоро он попадет под каблучок этой богатой гордячки.
Стараясь не пялиться, я подмечал каждую мелочь. Коррина Куинн явно принадлежала другой, не нашей эпохе. В параде обреченных она не участвовала. Не по ней было роскошными туалетами маскировать истощение почв, разделение невольничьих семей, низкие урожаи табака – словом, общий упадок. Одетая в платье из простого коленкора, Коррина Куинн стояла в проходе, беседуя с какой-то дамой, Мэйнард же, метнув на нее полный отвращения взгляд, тряхнул головой и занял место, только не среди джентльменов, а среди представителей белого отребья, людей, чье положение я считал двусмысленным. На публике родовитые виргинцы держались с этим сословием как с равными (даром что к белому отребью принадлежали типы вроде нашего надсмотрщика, Харлана), только это все было показное. На банкетах их фамилии произносили – будто выплевывали; их сыновей высмеивали в гостиных, их жен и дочерей, совратив, отвергали. Белое отребье корчилось под пятой белой знати, но терпело, понимая, что отыграется на невольниках.
Мое место было среди цветных – частью рабов, частью свободных. Мы все сидели возле конюшен, где трудились опять же цветные. Кое-кого я знал – в частности, Хокинса, слугу Коррины Куинн. Он уселся рядом со мной, и я, понятно, кивнул в знак приветствия, получив в ответ кивок, только без улыбки. Он вообще к себе не располагал, этот Хокинс; наоборот, отталкивал холодностью. Вид у него был как у человека, не выносящего дураков, но вынужденного постоянно иметь с ними дело. Вообще я побаивался Хокинса и почти не сомневался, что суровым и жестким его сделали хозяева – уж, наверное, к такому приневолили, что и в страшном сне не приснится. Зрители перекрикивались, пересмеивались с конюхами, я же, по обыкновению, наблюдая да помалкивая, дивился прочности наших связей, нашему сходству даже в мелочах. Мы, цветные, одинаково укорачиваем слова белых; мы вовсе без слов можем обходиться. Нас объединяют воспоминания – о лущении кукурузы, ураганах, героях, да только не книжных, а тех, которые в легендах живут. У нас свой особый мир, куда белым доступа нет. Каждый из нас – часть большой тайны. Мы не делимся на знать и отребье, не заводим жокейских клубов, а значит, не имеем и риска быть вышвырнутыми из оных. Мы – сами себе Америка, да не та, где приходится, вроде как незадачливому Мэйнарду, место под солнцем отвоевывать. В нашей, цветной Америке, места хватает всем.