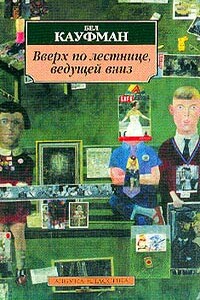И вновь вверх по ведущей вниз лестнице | страница 12
Ее новые наблюдения над жизнью школы много безотраднее, чем прежние. Испытанные приемы обуздания класса и возбуждения интереса в детях, которыми она так охотно делилась на учительских съездах и конференциях, перестали действовать. Непроходимая стена выросла между учительницей и детьми. У Бел Кауфман пропал даже ее спасительный юмор. Школьники кажутся ей теперь «вражеским станом». «Тлеющее недовольство», ощущавшееся и прежде в школе, переросло в «буйный мятеж». Ученики откровенно бездельничают, сквернословят, ёрничают, ходят, что называется, на головах, не хотят ничего знать и, главное, ведут неустанную, тайную и явную, войну со своими педагогами. Взаимная вражда дошла до такого градуса, ненависть в школе въелась так глубоко в плоть ее питомцев, что весь миротворческий опыт и гуманные намерения Бел Кауфман, Сильвии Баррет тож, оказываются напрасными.
Чтобы признать неудачу своей педагогики, расстаться с мыслью, что добрым, сочувственным словом, вниманием и любовью к детям можно победить самое глухое предубеждение, нужно немалое мужество. И Бел Кауфман обладает им. Она честно говорит, что не знает, что делать с этими детьми, со школой вообще. Она не скрывает своей растерянности. Ее отношение к ученикам сбивчиво, двойственно: она и понимает разумом, что они, пожалуй, не так уж виноваты, но и досадует на них, готова сорваться на крик, прогневаться, разобидеться.
Все это очень понятные человеческие реакции на скопище сорванцов, не желающих ничего слушать и вызывающе ведущих себя в классе. Но если учитель сердится — значит, он неправ. Есть, наверное, и другая, более высокая точка зрения на то, что происходит в американской школе, которая не сводится к педагогическому негодованию. Этого более широкого взгляда не хватает порой Бел Кауфман. Сама того не замечая, она находится во власти традиционных понятий о всемогуществе воспитания как автономной сферы жизни.
В самом деле, начиная с «Эмиля» Руссо и, наверное, еще раньше, педагогическая литература исходила из оптимистического взгляда на природу человека, которого можно научить, наставить, воспитать и даже переучить, перевоспитать, поскольку человеческая душа пластична, изменчива, и благородное знание впечатывается в нее, как в воск. Великая просветительная идея воспитания имела лишь одну очевидную слабость. Она брала простое соотношение воспитателя и воспитуемого как исчерпывающую модель подлунного мира. Учитель учит, ученик внимает ему и усваивает его уроки — такой путь, будь он принят повсеместно, казалось бы, неизбежно приведет к торжеству просвещенного человечества. Какая отрада думать, что достаточно с настойчивостью и упорством внушать молодому поколению некоторую сумму идей, чтобы оно стало другим, невзирая на охлаждающий опыт жизни.