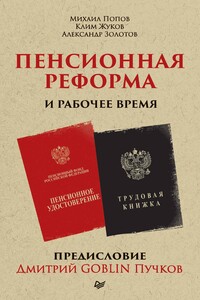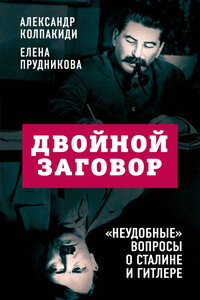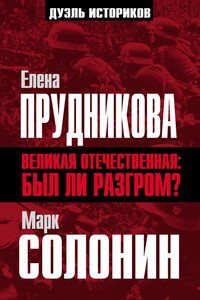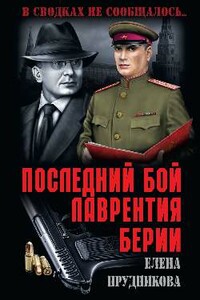Великая аграрная реформа. От рабства до НЭПа | страница 46
В городах ситуация была еще более-менее управляемой, там действовали думы, Советы и прочие демократические органы. На селе крестьяне праздновали победу.
Как только Николай Второй отрекся от престола, буквально в течение двух-трех дней по всей стране были сметены органы местной власти. Начисто, как метлой. Раньше всеми сельскими делами заправляли земства, в которых обычно сидели дворяне. Временное правительство решило сделать земства всесословными, чтобы там заседали дворяне, сельская интеллигенция, ремесленники, крестьяне — все, кто есть. На что крестьяне сказали: а не пошли бы вы, ребята, лесом! И в новые органы власти ни дворян, ни интеллигенцию не допускали. Ну, может быть, кого-то из местных эсеров, которые работали на крестьян, и допустили — но от этого правительству не легче. Новые органы власти были крестьянскими и должны были проводить политику в интересах крестьянства.
Назывались эти органы по-разному: комитеты, союзы, Советы. Давайте мы их для простоты будем называть земельными комитетами. Правительство их в принципе признавало, но считало недолговечными и собиралось заменить всесословными земствами. Однако у крестьян была иная позиция: они не желали заседать ни с помещиками, ни с бывшими представителями власти за одним столом.
Чем в первую очередь занялись земельные комитеты? Первым делом они занялись выживанием помещиков из деревни, отжиманием у них земли, скота, инвентаря, урожая и т. д. Крестьяне сводили счеты за несправедливую, с их точки зрения, реформу 1861 года.
Д. Пучков: Что, у помещиков были лучшие земли?
Е. Прудникова: Трудно сказать, лучше они были или нет. Если говорить с точки зрения аграрной науки, передовых технологий, то практически все земли были плохи. Поскольку что крестьянская земля, что помещичья обрабатывалась все по той же схеме. Просто крестьянская земля обрабатывалась хозяином, а помещичья — батраком.
Д. Пучков: Может, удобрений больше было?
Е. Прудникова: Это вряд ли. Количество удобрений зависело от числа скота на десятину пашни, и помещики были не в лучшем положении: у них скота много, но и размер пашни куда больше. Разве что поперечная вспашка применялась, которую не применяли на крестьянских полосках — там поперек не развернешься. Урожай был чуть побольше, но не в разы — допустим, не 40, а 60 пудов с десятины… Принципиальной разницы не было.
Д. Пучков: На треть — это не принципиально?
Е. Прудникова: Нет. За границей в это время получали до 200 пудов с десятины, у нас, в редких (очень редких!) культурных хозяйствах — 100–120 пудов. Другое дело, что хозяин свой урожай съедал сам, а помещик съедал, сколько ему надо, и большую часть продавал. По большому счету, почти весь товарный хлеб в России выращивался либо в помещичьих, либо в крупных кулацких хозяйствах (зачастую кулаки арендовали ту же помещичью землю). Там были очень сложные имущественные отношения. Кстати, крупных хозяев-кулаков в марте 1917-го тоже изрядно пощипали.