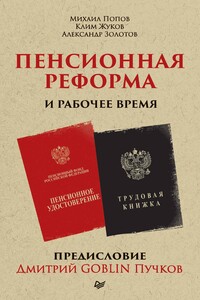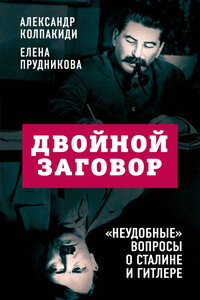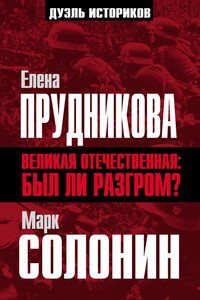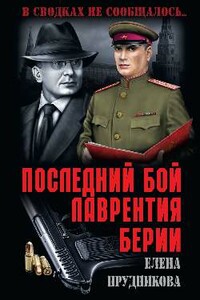Великая аграрная реформа. От рабства до НЭПа | страница 21
Е. Прудникова: Это уже не крестьянин, это кулак. Тут другое отношение к средствам производства.
Д. Пучков: Дело не в этом. Далее он набирает вес и власть внутри этой самой общины, которая, как вы только что объяснили, что-то достаточно справедливо распределяла… И вот образуется тогдашний сельский Цапок, у него появляется своя ОПГ…
Е. Прудникова: Да, конечно, так и было. У нас даже в ходе коллективизации все время зажиточных путали с кулаками, и, в общем-то, правильно путали. А ведь были просто зажиточные, которые сами, своими силами сумели выбиться, были так называемые «культурники» — которые вели хозяйство по науке. И когда шла коллективизация, сверху слали письмо за письмом: «культурников» не трогать, вообще на них не дышать. А ты попробуй иметь крепкое хозяйство, излишки хлеба, деньги — и не давать в долг под проценты. Тем более, когда все дают, когда это в обычае. Это значит не только быть очень хорошим человеком, но еще и пойти против всех, против общества. А что мы говорили про общинность?
На самом деле у нас крестьянство до сих пор недоизучено. Смотрите, как происходит: горожан подразделяют на классы и группы: мещане, дворяне, прислуга, рабочие… там внутри еще своя градация. Рабочие, например, были заводские и фабричные, квалифицированные и неквалифицированные, была «рабочая аристократия» и сезонники. А крестьяне — это просто крестьяне, единый такой монолитный массив. А этих крестьян было 85 % населения, между прочим, а в городах жило всего 15 % в нашей промышленно развитой державе.
Д. Пучков: И те были из крестьян отхожих промыслов, по всей видимости…
Е. Прудникова: И те были из крестьян большей частью. Рабочие и прислуга так уж точно, максимум во втором поколении. И конечно, в крестьянстве тоже было множество разных градаций. Если он зажиточный, который пока еще не стал кулаком — то это, в первую очередь, крестьянин, которому повезло. Например, сам он сильный, и сын у него такой же, кобыла у него сильная, хороших жеребят рожает. А другой слабый родился, не тянет крестьянскую работу в полную меру, да еще лошадь пала — и что же ему теперь?
Д. Пучков: Умереть…
Е. Прудникова: Умереть — это еще рано немножко, но он уже не живет, он выживает, дети голодают, растут тоже слабосильными… И вот, возвращаясь к нашей реформе: естественно, любая реформа всегда завязана на аутсайдеров. С ними-то что делать? Если не решить проблему аутсайдеров, они ж державу разнесут… Собственно говоря, в 1917 году это и произошло.