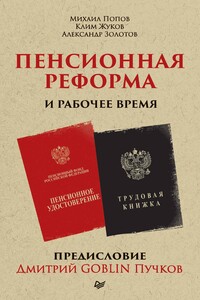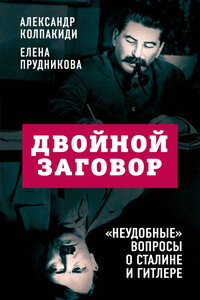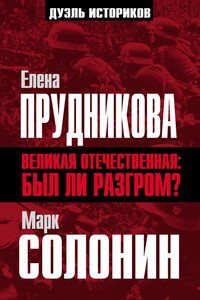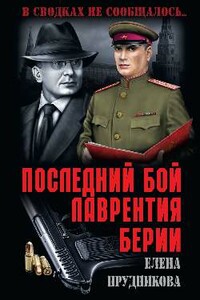Великая аграрная реформа. От рабства до НЭПа | страница 17
Е. Прудникова: Как в том анекдоте. Знаете, как картошку сажали? Посадили, потом выкопали на следующий день. А почему выкопали? А очень кушать хочется. Вот примерно так оно и было.
Д. Пучков: Может, тут есть какие-то объективные причины? Люди боялись, что все эти сельскохозяйственные новшества приведут к тому, что будет неурожай и все с голоду умрут?
Е. Прудникова: Их взять было неоткуда, эти новшества, для начала-то. Вот, например, середина XIX века, когда писался наш скорбный текст. Да, у нас все плохо — а как сделать хорошо? Откуда взять новшества, если своей агрономической науки нет?
Д. Пучков: Только из-за кордона.
Е. Прудникова: Правильно. А что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы человек был: во-первых, богатый, по заграницам ездить; во-вторых, выросший в деревне, чтобы знал, где что растет; в-третьих, владеющий языками, то есть имеющий хорошее городское образование; в-четвертых, достаточно бедный, чтобы самому надзирать за работами, и в-пятых, иметь интерес. Много ли таких было?
Д. Пучков: Нет.
Е. Прудникова: Мягко говоря. Тем более когда цена молотилки или жнейки приближается к цене крестьянского двора. Своего не производили, все везли оттуда. Купили машину — кому на ней работать? Посадили старосту. Староста ее от большой технической грамотности сломал — как ремонтировать? Опять же: сортовые семена — не для нашего климата, породистый скот — не для нашего климата. В итоге семена не всходили, скот вырождался, и передовое хозяйство падало к трехполью, сохе, урожаям сам-четверт.
Ведь с чего началась коллективизация? Вовсе не с того, что коров сгоняли на общий двор. Еще в 20-е годы советская власть лаской, таской и всеми доступными методами заставляла ученых выводить новые сорта, пихала агрономическую науку вперед — это был приоритет приоритетов. И Трофим Денисович Лысенко не аппаратными интригами стал большим человеком и академиком, а потому, что вывел кучу новых сортов для нашего климата, чтобы к началу коллективизации уже подогнать что-нибудь эффективное, урожайное. А в XIX веке кто этим занимался?
Ну вот, более-менее как-то все это до реформы тянулось. То есть не умирали пока, но особо и не жили. И тут грянула реформа 1861 года.
Д. Пучков: Не поздно?
Е. Прудникова: Поздно, конечно… При Петре надо было — но в правительстве-то кто сидит? Землевладельцы! У кого из министров нет пары тысяч душ? И вот так, за здорово живешь, взять да отдать бесплатную рабочую силу? Александр I, когда с ним в 1820 году заговорили о необходимости реформы, так и ответил: «Некем взять!» При Николае I больше десятка комиссий создавалось — все без толку. Но ждать уже не приходилось. Перефразируя Ленина, «низы» не только не хотели жить по-старому, но и не могли уже. Все, край пришел! Александр II открыто говорил: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, пока оно само собой начнет отменяться снизу». Когда царь говорит о грядущей пугачевщине, это очень страшно. Но за пять лет, с 1855-го по 1861-й, было 474 крестьянских восстания, и то, что страна висит на волоске, было ясно всем. Ну и, чтобы уж с гарантией, для подготовки реформы царь создал комитет из крупных помещиков-крепостников.