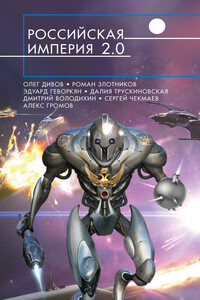Митрополит Филипп | страница 46
Возможно, тот же Макарий выпросил у боярского правительства при малолетнем государе земельное пожалование для соловецкой братии: деревни Шижно, Сухой Наволок и Остров[29] с соляными варницами, Никольским приходским храмом, а также угодьями, исстари «тянувшими» к этим деревням. Три года спустя монастырь с принадлежащими ему селениями освободили от суда и контроля со стороны местных властей. Неужто государь-мальчик (к моменту первого пожалования ему исполнилось восемь лет, к моменту второго — И) возжаждал помочь обители, где он никогда не был? Неужто служилая знать, занятая жестокой борьбой придворных партий, обратила внимание на беды монастыря, расположенного в краю северных сияний? У кормила власти стояла тогда партия Шуйских. В специальной исторической литературе встречается утверждение, согласно которому Шуйские «…путем дарования льгот северным духовным корпорациям… стремились заручиться поддержкой новгородских феодалов»>{7}. Но какой мог быть у «новгородских феодалов» интерес к богомольцам из обители, патроном которой считался сам государь, непонятно. В Москве вообще мало кто знал о существовании Соловецкой обители, а те, кто слышал о ней, наверняка худо представляли себе, где она находится. Зато владыка Новгородский был превосходно осведомлен о житье соловецких монахов, с ними встречался, слышал немало историй о чудесно «сильной иноческой жизни», принятой у тамошней братии. И у него были все основания поддерживать Соловки, направлять монастырскую общину к новым духовным подвигам.
В ту пору иноки не решились на большое строительство. Земельные пожалования показались им слишком скудными для такой затеи, доходов с них хватило лишь для того, чтобы поднять монастырь из пепла и угольев. А Макариевы часы упомянуты в монастырской описи 1549 года, но неясно, на каком здании они крепились. Во всяком случае, ни на одном из церковных. Лишь Филиппу идея Макария запала в душу.
Но Макарий не оставлял старой надежды. Найдя в Филиппе единомышленника, он помог настоятелю.
Чем владел монастырь на исходе 40-х — в начале 50-х годов XVI века? Упомянутым земельным пожалованием, да церковкой на реке Вирме с прилегавшими землями, да двумя клочками земли на Двине и Суми — помимо самих Соловецких островов. Чтобы было понятно, насколько «богата» была Соловецкая обитель, стоит сказать: на всех землях монастыря вне Соловков жили лишь 43 человека. Они варили соль, косили сено и мололи зерно на водяных мельницах. На Соловках монахи располагали стадом в 30 лошадей, 25 коров, небольшим «флотом» из четырех лодий и 15 карбасов (крупных лодок). Братия варила соль, ловила рыбу и тоже молола зерно на трех водяных мельничках, но жила все равно впроголодь. Если бы сотня постоянно недоедающих монахов, имея крайне скромные доходы, взялась возводить столь крупный архитектурный комплекс, как Успенский храм с пристройками, это строительство грозило бы превратиться в чудовищный, на десятилетия, долгострой.