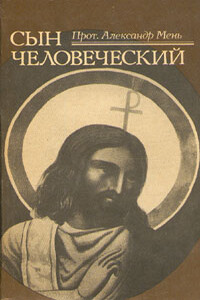Положение духовного сословия в церковной публицистике середины XIX века | страница 30
Со студенческой скамьи считая себя интеллектуально и нравственно исключительным, Белюстин, по всей видимости, готовился к блестящей и успешной карьере, мечтам о которой не суждено было сбыться. Вместо всеобщего признания, академического образования и доходного места будущий публицист оказывается в провинции, уклад жизни которой не прибавлял энтузиазма молодому священнику. При анализе дневников и писем Белюстина становится очевидным, что сельская жизнь тяготит его, и, проходя свое служение в селе, он грезит переводом в одну из столиц, более предпочитая Москву[133]. Хлопоты о переводе занимали ум священника почти всю его жизнь, и желание покинуть провинциальный Калязин, о котором он часто отзывался самым нелицеприятным образом[134], мотивировалось необходимостью дать образование своим детям[135], а иногда желанием заниматься наукой и публицистикой без отвлечения на приходскую деятельность[136]. Возможно, на мысль служить, не имея прихода, отца Иоанна натолкнуло не только желание уединенности и достатка, но и разочарование в результатах своего пастырства. Белюстин не видел коренных перемен в жизни мирян и считал русский народ безрелигиозным и безнравственным в высшей степени[137]. Несмотря на желание закрыться от мира в рабочем кабинете и отрицательную оценку народной религиозности, Белюстин часто не без самохвальства пишет о собственных трудах на благо Церкви, о том, что прихожане ценят его и не принимаются за серьезные дела без его благословения[138], о роли горожан в деле его назначения в Калязин и о хлопотах паствы ради его награды саном протоиерея[139].
Очевидно, Белюстин знает себе цену и не стесняется говорить об этом. Что касается отношения к своим собратьям, то, изучив жизнь местного духовенства, Белюстин еще раз убеждается в своей исключительности[140] и не входит в близкие отношения не только с соседними причтами, которые, по его мнению, под покровом епископа[141] живут безнравственно и во мраке невежества[142], но даже со священством своего прихода[143]. Чувство исключительности сопровождает его на протяжении всей жизни, а невозможность претворить эту исключительность во что-либо материальное погружает Белюстина в глубокую печаль и уныние, иногда его даже посещают мысли о добровольном сложении священного сана