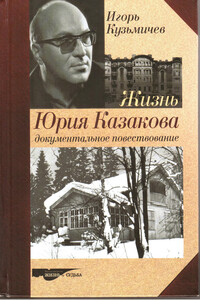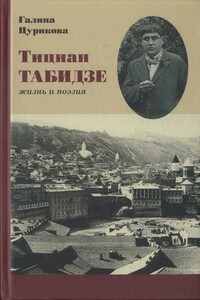Лицо другого человека. Из дневников и переписки | страница 34
Для старца Зосимы «доминанта на лицо другого» была итогом «труда целой жизни изо дня в день». Усредненный же интеллигент, ценящий более всего комфорт самодовольства, по мнению Ухтомского, не решится стать на эту дорогу. Способность открытым сердцем принять мир другого лица, присущая «людям простым и бедным», сплошь и рядом «замкнута о семи печатях для чересчур мудрствующих людей».
Увы, к сим последним Ухтомский причислял и себя.
8
1920-е годы меняли декорации, государство судорожно перестраивалось под нажимом диктаторских лозунгов, – а жизнь Ухтомского текла своей колеей. Он верой и правдой служил университету, читал общие и специальные курсы на биофаке, завоевав репутацию всеми любимого профессора.
Один из его учеников вспоминал, как победительно выглядел Алексей Алексеевич, шагая по коридору Главного здания: высокий, широкоплечий, импозантный, с окладистой седой бородой и откинутыми назад черными волосами, одетый в длинную суконную рубаху, подпоясанную кожаным тонким ремнем; шел по просторному университетскому коридору четким шагом, громко стуча каблуками сапог, – с поднятой головой, держа в одной руке картуз, в другой ненагруженный портфель: шел, как на праздник, с улыбкой отвечая на приветствия, – читать лекцию…
И это в условиях, когда к концу 1920-х годов университет и Академия наук утратили даже относительную независимость и оказались под жесточайшим гнетом партийных властей, когда развернулась «классовая борьба на теоретическом фронте» – с идеалистической философией и «мистицизмом», когда после повальных чисток место ошельмованных, арестованных и сосланных ученых занимала «красная профессура», и биофак университета не был тут исключением. Там подняли тогда голос демагоги-недоучки вроде позорно известного впоследствии лысенковца И. Презента, которые под флагом внедрения марксизма насаждали на факультете нетерпимую обстановку, «опровергали» генетику и плясали свою бесовскую пляску.
Такие обстоятельства совпали с внешней переменой в отношениях Ухтомского и Платоновой. Нет, они остались близкими людьми, встречались изредка в Петрограде, ставшем Ленинградом, и Москве, где Варвара Александровна теперь жила, по первому зову готовы были броситься на помощь друг другу; их сердечная привязанность и духовное родство, закаленное в огненном горниле, ничто не могло поколебать, – только вот их переписка после 1922 года, кажется, потеряла прежнюю интенсивность. Пошла ли она на убыль? Трудно сказать. Писем Алексея Алексеевича к Варваре Александровне за 1922–1929 годы не обнаружено, но судя по всему они были. А сколько писем послала ему она, можно лишь гадать, в наличии сейчас всего два, и письма эти – как странички, вырванные из знакомой книги: на них лежит печать узнаваемого текста с характерной, непередаваемой интонацией.