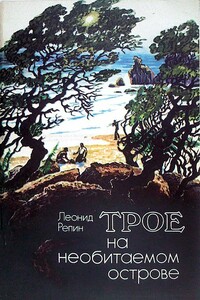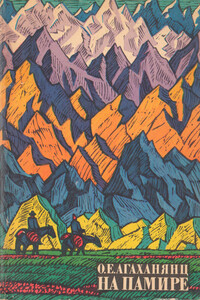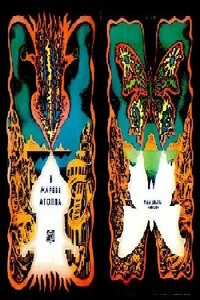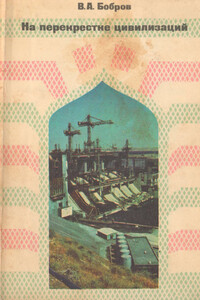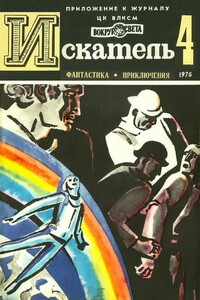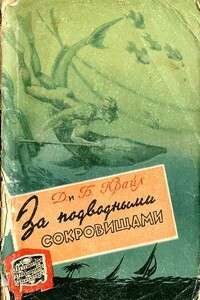Путешествие в страну миражей | страница 111
Много этих силуэтов мелькало за смотровым стеклом, пока мы ехали по извилистой разбитой дороге. Но едва я успевал сообразить, удобно ли снова просить остановить машину, как видение исчезало и начинало открываться нечто новое. И я до боли в глазах всматривался в скалы, боясь просить остановиться слишком рано.
Мелькали аулы — Тутлы-Кала, Махтум-Кала, Юван-Кала. И хоть аулы были тихими, робко жавшимися к скалам, хотелось соглашаться с грозными их названиями («кала» значит «крепость»). Наконец горы разбежались в стороны и снова сошлись у горизонта, кольцом охватив еще одну «крепость» — «столицу» туркменских субтропиков поселок Кара-Калу — цель этой моей дороги через горы.
Но прежде здешняя природа подарила мне еще одно видение — «Лунные горы». К сведению режиссеров, собирающихся снимать фильмы о Луне: если вам понадобится неземной ландшафт, приезжайте в Кара-Калу. Неподалеку от поселка вы увидите зеленые, бурые, серые, синие холмы, поразительно гладкие и голые. Угрюмыми грядами, лишенными какой-либо растительности, они обступят вас, и даже щепотки воображения будет достаточно, чтобы почувствовать себя на чужой планете.
Кара-Кала окружена горами со всех сторон: гребни вершин, задымленные далью, видны с каждой улицы, от каждого перекрестка. Не в пример многим другим райцентрам республики поселок удивительно зелен. Я ходил по улицам и наслаждался тихим шелестом листвы. И зной был не столь изнуряющим, как, например, в Бахардене. Здесь было все необычное: дома совсем городские — пятиэтажные, удивительно большой для москвича выбор литературы в книжном магазине, парк густой и тенистый. В парке возле библиотеки попался на глаза плакат, написанный на листе фанеры: «Не всякий, кто читает, во чтении силу знает». Оглядев его со всех сторон и так и не раскусив поистине восточной премудрости этой фразы, я пошел дальше через парк к высокой стене кипарисов, темневшей в конце соседней улицы, туда, где начинались знаменитые на всю страну «сады Семирамиды», именуемые официально Туркменской опытной станцией Всесоюзного института растениеводства.
«Семирамида» — именно так мои ашхабадские друзья называли директора станции Ольгу Фоминичну Мизгиреву — оказалась маленькой пожилой женщиной. Узнав, что меня интересует не только растениеводство, но и она сама, Ольга Фоминична решительно замахала руками. Пришлось отложить приготовленный для эффектного начала разговор об ассирийской царице Семирамиде и принять условие, согласно которому я должен был выслушивать не автобиографические откровения, а лекцию о станциях растениеводства, их уникальных генетических фондах, о роли, которую они играют в решении наитруднейшей задачи: как прокормить безудержно растущее человечество.