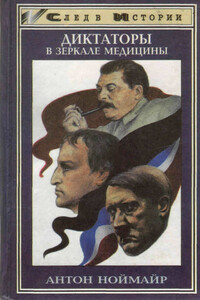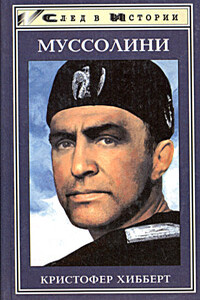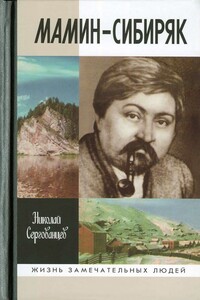Марина Цветаева | страница 97
Цветаева перевела эти письма между 1932 и 1934 годом, приблизительно в то же время она написала «Письмо к Амазонке» о лесбийской любви, тоже на французском. Витале соединила эти произведения в одну книгу, считая, что их темы одинаковы: «несоединенность», пустота сексуальных отношений двух женщин и женщины с мужчиной. Конечно, ни письма, ни стихи не дают реалистической оценки страстного увлечения Цветаевой Вишняком. Но неважно, что она «намечтала» или превратила в миф. Боль Цветаевой, ее страсть были подлинными. Она встретилась с Вишняком вскоре после приезда в Берлин, хотя ее первое письмо ему датировано 17 июня 1922 года. Он был близким другом Эренбурга и уже опубликовал томик стихов Цветаевой. Молодой красивый мужчина, он был счастливо женат и имел сына четырех лет; он любил ее стихи и пленился ею самой. Ее очаровала его чувственная, непонятная теплота и ошеломила бешеная атака нежности, его и ее собственной: «Все последние годы, — писала она ему, — я жила настолько иначе, настолько сурово, столь замороженно, что теперь лишь пожимаю плечами и удивленно поднимаю брови: это — я? Вы меня разнеживаете, как мех, делаете человечнее, женственнее, приручен нее».
Ее капитуляция перед пылом неожиданной страсти была настолько полной, что она была готова уступить свою самую уязвимую женскую сущность, которую большую часть времени успешно скрывала. Но Цветаева не была готова отказаться от своей материнской роли. Она обращалась к Вишняку в письмах «мое дитя», «мой маленький мальчик». «Мой маленький! — писала она. — Сейчас четыре часа утра. Я с Вами, лбом в Вашем плече, я готова отдать Вам все все стихи, прошедшие, пришедшие, те, что придут». На вершине страсти Цветаева была готова променять свой поэтический дар на возможность быть любимой женщиной. Она предлагала его Парнок и другим.
Она осознавала, что ее привлекла чувственность Вишняка, а не душа: «Я все знаю, Мужчина, я знаю, что Вы поверхностны, беспечны, несерьезны, но Ваша глубоко животная природа затрагивает меня глубже, чем иные души». Довольно скоро она почувствовала его раздражение, скуку от ее опекающих «наставлений». Ощущая свою неспособность следовать за ним в простом наслаждении, она начала строить защиту: «Я могу без вас. Я ни девочка, ни женщина; я обхожусь без кукол и без мужчин. Я могу без всего. Но, быть может, впервые я хотела бы этого не мочь».
Теперь ее непреодолимое давление раскрыть — или выдумать — душу Вишняка стало серьезным: «Не думай, что я презираю твое простое земное существо. Я люблю тебя всего целиком, с твоим взглядом, твоей улыбкой, твоей походкой, твоей ленью — врожденной, родной, родной, естественной, — со всем этим твоим смутным (для тебя, не для меня) началом души: доброты, сострадания и самоотречения». Цветаева хотела заменить беззаботного, любящего удовольствия Вишняка на одухотворенного человека, ищущего более возвышенного, более тесного единения, чем то, которое мог дать только секс. Она хотела, чтобы он, по существу своему эпикуреец, принял ее любимое изречение Бетховена «радость через боль». Но вскоре она поняла, что ее надежда напрасна. На полях одного письма она написала: «Надежда имеет крылья. Мои надежды — камни на сердце: желания, которым не хватило времени стать надеждами, но которые немедленно превратились в первую очередь в отчаяние, в бремя, в тяжесть! Не дай Бог мне снова понадеяться на себя!»