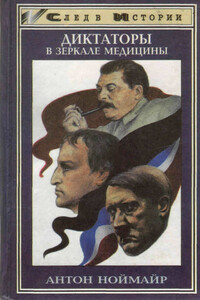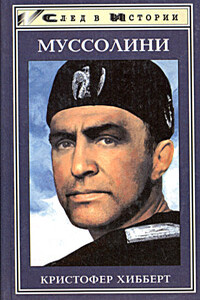Марина Цветаева | страница 75
Хотя Соня писала Цветаевой из провинции и в письмах признавалась в вечной любви, она навестила ее только однажды, между поездами. После этой короткой встречи Цветаева еще около трех лет жила в России, но никогда не пыталась связаться с Соней. «Я знала, что мы должны расстаться, — писала она. — Если бы я была мужчиной — это была бы самая счастливая любовь — а так — мы неизбежно должны были расстаться. […] Сонечка от меня ушла — в свою женскую судьбу».
Отношения с Соней отличались от большинства других связей в жизни Цветаевой своим завершением — без разочарования и гнева. С помощью фантазии Цветаевой нужно было только перевернуть рационалистическое объяснение того, почему Сонечка покинула ее, и она была готова ее отпустить. «Ведь все мое чудо с нею было — что она снаружи меня, а не внутри, не проекцией моей мечты и тоски, а самостоятельной вещью, вне моего вымысла, вне моего домысла, что я ее не намечтала, не напела, что она не в моем сердце, а в моей комнате — была».
Поразительно парадоксальное сочетание в Цветаевой способности постижения собственной души и самообмана. Она знала, что она «проектирует», «домысливает» людей, но в то же время отрицает осознание этого. Следует только перевернуть этот отрывок наоборот, и мы получим верную картину. «Все чудо» было в том, что Сонечка была внутри Цветаевой, а не снаружи, проекцией ее мечты и тоски, не самостоятельной вещью, вне вымысла и домысла Цветаевой. Она ее намечтала. Сонечка была не в ее комнате, а в ее сердце. До некоторой степени, она не существовала.
В июле 1919 года Цветаева читала публике свою пьесу в стихах «Фортуна»; ее героем был герцог Ло-зэн, французский дворянин, боровшийся с революцией и обезглавленный на гильотине в годы террора. В финальной речи, вновь подтверждая свою преданность делу равенства и собственным благородным корням, он предстает в пьесе как жертва невежества и жестокости палачей. На чтении присутствовал Луначарский — нарком просвещения. Цветаева почувствовала комичность ситуации. «Монолог дворянина — в лицо комиссару, — вот это жизнь!» Она жалела только, что не могла прочесть ее Ленину и всей Лубянке.
После чтения ее чувство одиночества и отчуждения появилось снова: «Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов дома, где живу пять лет, как на службе, как когда-то во всех семи русских и заграничных пансионах и гимназиях, где училась, как всегда — везде». Однако в то время у Цветаевой было много друзей; ее уважали и обожали в среде людей театра и ее репутация как поэта росла. Но ей никогда не было достаточно.