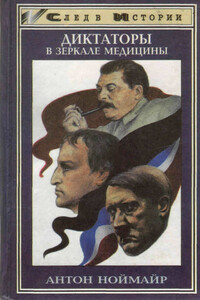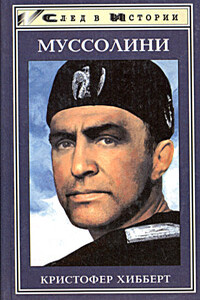Марина Цветаева | страница 67
Цветаевой не к кому было обратиться за поддержкой. Ася, которая в 1916 году снова вышла замуж (ее второй муж умер в 1917), осталась на юге; ее сводный брат Андрей был в Москве, но она редко его видела. Валерия также была в Москве, но Цветаева совершенно потеряла связь с ней. Самым мучительным было отсутствие известий от Эфрона. Абсолютно одна Цветаева должна была обеспечивать семью едой, дровами и одеждой — трудная задача. Она изрубила мебель, чтобы отапливать комнаты, продала все, что только могла, принимала еду и одежду от друзей и соседей.
Илья Эренбург описал Цветаеву вскоре после ее возвращения в Москву: «Поразительным в выражении ее лица было сочетание надменности и замешательства. Ее осанка была гордой — откинутая назад голова с очень высоким лбом, но замешательство выдавали ее глаза, большие и беспомощные, как будто невидящие».
Согласно новым правилам, Цветаева должна была делить квартиру с чужими людьми; только столовая и одна из спален была в ее распоряжении. Однако, к счастью, была еще маленькая комната в мансарде, служившая ей убежищем и ставшая ее «замком». Яркое описание этой квартиры Эренбургом похоже на описание других современников: «Было бы сложно вообразить еще больший хаос. В те дни все жили в чрезвычайном положении, но все, что способствовало отдыху, было сохранено. Марина же, казалось, намеренно разрушала свое убежище. Все было разбросано, покрыто табачным пеплом и пылью». Это была новая «свобода», которую она нашла.
Странно, но атмосфера опасности, напряжения и вызова, повисшая над Москвой, как-то устраивала Цветаеву, отдаляя ее от банального существования, к которому она питала отвращение. Деньги, условности, комфорт стали неважны. Общие страдания объединили людей всех классов, людей, обычно державшихся совершенно разных социальных и политических взглядов. В этом хаотичном мире борьба за выживание превосходила все остальное, придавая особое значение вечным темам любви и смерти. Цветаева так описывала свой обычный день:
«Я проснулась — верхнее окно едва серое, холодно, лужи, опилки, корзины, кувшины, тряпки, всюду детские платья и рубашки. Я напилила дров, зажгла огонь, вымыла картошку в ледяной воде и сварила в самоваре. […] Я хожу и сплю в одном коричневом платье, нелепо сморщенном за долгое время, сделанном для меня в мое отсутствие весной 1917 года в Александрове. Оно полно дыр от углей и сигарет. Рукава с резинкой на запястье теперь вытянулись и закреплены булавками».