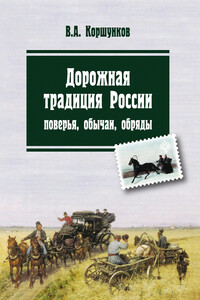Ветроум. Странное, страшное, смешное в повседневной жизни русской провинции XVIII – начала XX века | страница 19
Первое причастие происходит уже при крещении младенца. И Мавра, и Акулина, разумеется, получили должное причащение в младенчестве. Когда они признавались, будто «от роду своего ни разу» у причастия и исповеди не бывали, то имели в виду – в сознательном возрасте. Церковь определяла семилетний возраст как рубеж, когда наступает ответственность человека за свои поступки. После можно было не только причащать, но также исповедовать. Государственная власть, дисциплинируя подданных в их отношении к исповеди и причастию, указывала, что это должны делать все люди «от седьми и до самых престарелых лет»[63]. 22 декабря 1785 года был подписан указ Екатерины II «О дозволении малолетным, коим минуло 14 лет, просить Попечителей, по прошествии же от роду 17 лет вступить самим в управление имения, но прежде 21 года не продавать и не закладывать оное без согласия Попечителей». Там говорилось определённо: «Малолетному по прошествии от роду 17 лет вступать в совершеннолетство», причём это касалось людей обоего пола[64]. Так что и 14-летие тоже было важной вехой юридически определяемого взросления. Указ этот касался дворянских детей, но, по логике тогдашнего законодательства, его формулировки можно было применять и к иным ситуациям. Из него следует, что, имея от роду 18 или 20 лет, человек вполне мог отвечать за себя и уж к исповеди и причастию обязан был являться[65].
В то время действовали губернские совестные суды. Они служили в качестве специальных учреждений, в частности, для процессов над малолетними обвиняемыми. В 1787 году Вятский совестный суд разбирал дело о крепостном парнишке из Уржума, который бежал из-за побоев. Когда выяснилось, что ему не 16, а 18 лет, то дело передали в другую инстанцию – Вятский уголовный суд