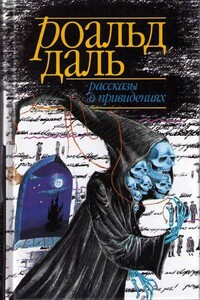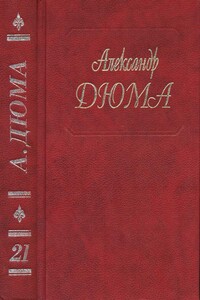Зет | страница 30
О, какой прекрасной становится жизнь, когда веришь в людей! Сколько женщин делается похожими на женщин, сколько мужчин — на мужчин — если взять только эти две основные особи, продолжающие жизнь, — а не на те презренные, ничтожные существа, которые беспрерывно размножаются, жалкие, растерянные, поглощенные фантастическими туманными видениями и лунными затмениями. Как прекрасна жизнь, когда ты беседуешь со мной и твоя рука в моей руке.
Мертвые никогда не заговорят, поэтому над ними тяготеет тяжкое обвинение. Ведь они забыли, что есть великая сила — голос. Значит, мы должны говорить за них. Мы должны отстаивать их право на отсутствие.
Человек подвержен страху, если он изолирован. Если вокруг него нет просторов, где можно побродить, морских берегов, где можно поваляться на песке, женщин, которых можно поласкать, и он не способен во лжи найти крупицы правды. Человек подвержен страху, если он мал. Если не может коснуться головой листвы дерева, леса, звезд. Человек подвержен страху, если он свыкся с законом притяжения, законом, так же тесно связанным с нашей планетой, как курица с яйцом. На других планетах, где действуют другие законы притяжения, человеку пришлось бы заново научиться жить.
А любовь всегда остается любовью, если душа не покрылась ржавчиной. Тело, носитель любви, может меняться. Очень жаль, если оно не меняется. Но любовь остается всегда неизменной, за каким бы лицом, за какой бы парой стеклянных глаз она ни скрывалась. Это как жажда воды, жажда того, что опережает нас, рушит преграды и стремится к чему-то иному. Это твой голос, слитый с моим голосом, два голоса, отсутствие голоса, это ты и я, когда мы уже не ты и я, а когда мы в ритме барабанов доисторического времени совершаем действо вечное, как солнце.
Он любил свою жену. Когда она горько плакала из-за его измен, то у нее на шее вздувались голубые жилки, напоминающие корни, по которым он спускался глубоко к истокам созидания.
У нее была белоснежная шея, крепкое тело, светлая душа, голос, зовущий его: «Приди». И глаза, большие глаза, устремленные на него, притягательные, как моря, по которым не плавал никогда ни один корабль или плавало много кораблей — это все равно, — горящие земные глаза, затрагивающие струну в его душе, связанную со струной мира. «Я люблю тебя», — говорил он ей, и при этих тысячу раз повторяемых словах, будто по велению сердца, мир вновь становился прекрасным. И опять, как всегда, каждый вечер, как в то время, когда он еще не знал ее, тот же страх: «Придет или не придет?», такое же сердцебиение, пока наконец она не приходила, не приближалась к нему, скованная, несмотря на свою живость, темноволосая, несмотря на белизну тела. И у рук ее был привкус земли.