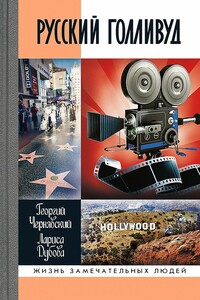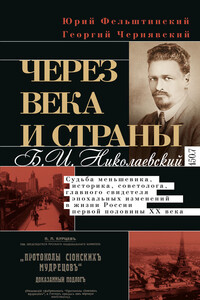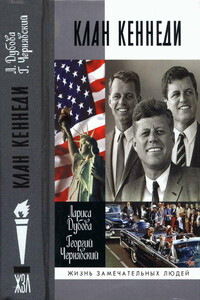Милюков | страница 39
Первоначально молодой Милюков искал свой подход к общей периодизации всемирной истории исходя из контовской триады исторического развития и видел ключ в смене приоритета веры, чувства и мысли как ведущих факторов на разных этапах развития человеческих сообществ. Он писал в мемуарах: «Мое увлечение Контом стало известно, и меня стали считать — иные, быть может, и до сих пор считают — присяжным «контистом». Название «позитивиста» подходило бы больше, так как у Конта я взял не столько его схему, сколько его научное направление. Я уже и тут внес оговорку, упомянув о моих занятиях критической философией и теоретико-познавательными вопросами. Но эта оговорка до конца осталась незамеченной, тем более что в дальнейшем мне пришлось защищать позицию «позитивизма» против «метафизики»>{84}.
Так или иначе, но специальные интересы Павла всё больше сосредоточивались на истории, причем не на отвлеченных рассуждениях теоретического характера, а на сугубо конкретной проблематике, к которой, однако, можно было бы применять те «позитивные» методы, на которых настаивали Конт и его ученики, которые пропагандировал и М. М. Ковалевский.
Именно в это время в исторической науке России постепенно происходил перелом — ученые всё больше осознавали необходимость перехода от хронологического изучения событий к изучению процессов, истории учреждений, истории быта. Огромное значение в этом смысле имели специальные семинары, которые проводил Павел Гаврилович Виноградов, в то время «сторонний» преподаватель университета (его основным местом работы были Высшие женские курсы). Человек еще очень молодой (старше Милюкова всего на пять лет), Виноградов был «практиком» исторического исследования, уже проявил себя как мастер анализа архивного материала и именно этому учил Павла и его товарищей. Как раз в семинаре Виноградова по германским «правдам» Милюков учился анализу исторических первоисточников. А тот факт, что речь шла о документах не российской истории, а западноевропейской, причем периода раннего Средневековья, лишь обострял познавательное любопытство и давал надежду в будущем использовать подобные методы анализа для изучения сходных русских документов.
Собственно говоря, эти документы были законодательными актами, по-латыни они назывались «lех», то есть закон. Термин «правды» использовался по аналогии с русскими документами еще в предыдущие годы. Виноградов и его ученики, включая Милюкова, сохранили его, имея в виду общность основных путей исторического развития Руси и европейского Запада. Под руководством молодого преподавателя Милюков и другие студенты изучали записи норм права, судебники, действовавшие у древнегерманских народов в период складывания государственности в V–IX веках. Перечни штрафов и других наказаний за те или иные преступления давали возможность делать выводы об уровне производительных сил, формах собственности, дифференциации общества, то есть об основах социально-экономических отношений в период зарождения феодализма. Большинство этих «варварских правд», сохранившихся в архивах и скопированных Виноградовым, отражали и элементы родового уклада, в частности разные типы общин.