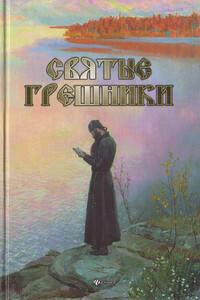Победоносцев. Русский Торквемада | страница 9
Важнейшей стороной старомосковского уклада в глазах К. П. Победоносцева была религиозность: строгое исполнение обрядов, житейское благочестие, приверженность которым будущий обер-прокурор также позаимствовал от предков. Он не раз называл привычку к молитве и церковной жизни важнейшими ценностями, которые передали ему родители, прежде всего мать. Как отмечалось выше, его письма и статьи наполнены описаниями красоты богослужения (в приходском храме Симеона Столпника на Поварской улице и в иных церквях), колокольного звона, религиозных процессий. При этом религиозность имела, по его мнению, особое значение, выходившее за рамки собственно духовных, вероисповедных аспектов. Она несла ярко выраженную социальную нагрузку — позволяла Константину Петровичу почувствовать себя единым целым с массой простого народа, хранившего традиционное благочестие, и тем самым укрепляла в нем чувство безопасности, покоя, защищенности, с которыми было связано пребывание в лоне патриархального уклада. «Православному человеку, — считал Победоносцев, опираясь на собственные ощущения во время богослужения, — отрадно исчезать со своим «я» в этой массе молящегося народа… Волна народной веры и молитвы поднимает высоко и молитву, и веру у каждого, кто, не мудрствуя лукаво, принесет с собою в церковь простоту верующего чувства»>{17}.
Безусловно, простота, вера, возможность почувствовать себя единым целым с народом относились к числу важнейших особенностей старомосковского уклада, придававших ему такую ценность в глазах консерватора. Однако жизнь Первопрестольной в период пребывания здесь Победоносцева (особенно в 1840-е годы) вовсе не сводилась к патриархальному покою и тишине. Именно тогда здесь формировались важнейшие направления российской общественной мысли — западники, славянофилы, революционные демократы; кипели споры, ставились и решались ключевые вопросы российской действительности. Эти дискуссии оказали значительное влияние практически на всех, кто прошел через них и играл впоследствии значительную роль в общественно-политической жизни России второй половины XIX века, включая упомянутых выше И. С. Аксакова и Б. Н. Чичерина. Каково же было восприятие К. П. Победоносцевым идейной жизни Москвы 1840-х годов? Каково было его отношение к вопросам, которые ставились в ходе упомянутых дискуссий?
Может показаться удивительным, но будущий обер-прокурор, вовсе не являвшийся интеллектуально ограниченным человеком, не только не принимал участия в кипевших в Москве дискуссиях, не только не примкнул ни к одному из формировавшихся здесь идейных лагерей, но даже заявлял об этом впоследствии не без самодовольства. «Представьте, — писал он в 1878 году еще одной своей доверенной собеседнице, фрейлине Екатерине Федоровне Тютчевой, — что столько лет я умел даже уберечься от московских кружков»