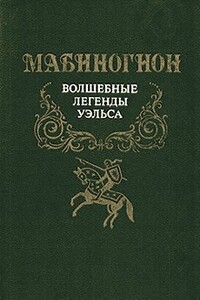Толедские виллы | страница 34
Дивную власть даровало небо музыке! Все, что ни замыслит, ей удается: она усыпляет Аргуса, усмиряет диких зверей, сдвигает камни, прекращает бури, прогоняет злых духов и, если правду говорят древние, сладостной гармонией сфер поддерживает жизнь вселенной, что, вероятно, дало повод философу назвать махину мирозданья «героическим стихом, чьи слоги — живые существа». Меня, по крайней мере, она хоть и не победила сразу, но настроила так, что в несколько дней моя свобода оказалась в плену у того, кто музыкальные инструменты сделал своим оружием.
Неподалеку от святейшего монастыря капуцинов у нашей семьи есть вилла; там стоит небольшой дом, где зимою можно наслаждаться солнцем, а в летнюю пору — цветами; их обильно орошает источник, и сама Флора, глядясь в многоводную реку, причесывает их частым гребнем кротких ветерков, которые так и ластятся к ним. Мы часто туда ездили, то на лодке, то в карете, чтобы, проведя в мирном уголке два-три дня, с большей охотой окунуться затем в суету городской жизни. В один из таких дней, если не ошибаюсь, десятый после того, как я услыхала пенье дона Гарсиа, матушка и брат пошли в упомянутый монастырь, а я осталась дома одна, сославшись на нездоровье, ибо уже начала находить приятность в одиночестве — верная примета любовного недуга. И вот часу в одиннадцатом, когда я, стремясь отвлечься от дум, уже не повиновавшихся моей воле, составляла букет из жасмина и гвоздик, в дом вошли двое мужчин, неся на руках третьего, раненого и в беспамятстве. Положив его прямо на цветы, а его голову мне на колени, один из них сказал: