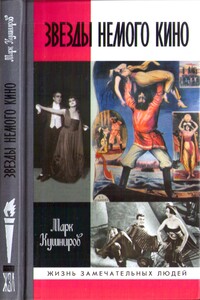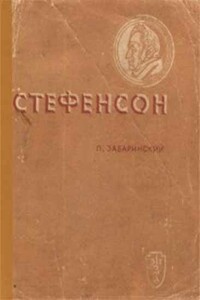Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 51
Честно говоря, я не очень понял, что хотел сказать Мейерхольд (уже, так сказать, поздний Мейерхольд). Что он подразумевал под словом «читать». Глупо же предполагать, что он, подобно несмышленому мальчишке, выходя к роялю, отбарабанивал слова, вместо того чтобы произносить их с тем или иным выражением. Но получается именно так. Станиславский заставлял его в эти моменты делать что-то постороннее (например, с усилием вынимать из бутылки пробку) и тем самым оживлял произносимый актером текст… Как известно, Станиславский был чрезвычайно деспотичным режиссером. Очень часто его репетиции сопровождались слезами и отчаянием. Он был беспощаден ко всем — другое дело, что он проявлял беспощадность по-разному. Своих фаворитов он укоризненно журил, большинство других жестко отчитывал. Став режиссером, Мейерхольд демонстрировал на репетициях куда большую терпимость. Он говорил (сошлюсь на пересказ Гладкова): «Вне атмосферы творческой радости, артистического ликования актер никогда не раскроется во всей полноте. Вот почему я на своих репетициях так часто кричу актерам: «Хорошо!» Еще нехорошо, совсем нехорошо, но актер слышит ваше «хорошо» — смотришь, и на самом деле хорошо сыграл. Работать надо весело и радостно! Когда я бываю на репетициях раздражительным и злым (а всякое случается), то я после дома жестоко браню себя и каюсь. Раздражительность режиссера моментально сковывает актера, она недопустима, так же как и высокомерное молчание». И это было сущей правдой — сошлюсь на откровения великих:
«А если выпадало счастье услышать его характерное «хор-р-рошо» по отношению к себе, то в такие минуты хотелось умереть от счастья» (Бабанова).
«Я… очень скоро увидел, что Мейерхольд кричит «хорошо» не только тогда, когда происходит на сцене что-то действительно хорошее, но и тогда, когда делается что-либо из рук вон плохо. Это делалось для поднятия настроения у актера» (Ильинский).
И это «хорррошо! хорррошо!» с раскатом и ликованием звучало практически на каждой его репетиции. Оно не только оживляло настроение артиста, оно пробирало его, что называется, до самого нутра, дразнило и чувственно вдохновляло. Но я отвлекся…
Примерно двумя годами позже и в «Одиноких», и в «Трех сестрах» Мейерхольда заменил Качалов, и, как ни обидно признавать, исполнил те же роли намного интереснее — его природное обаяние (именно оно) и тут не отказало ему.
Летом труппа поехала в Ялту — показать себя больному (тогда еще не смертельно) Чехову. Но дело есть дело, и заодно решили совместить Ялту с несколькими показами в Севастополе. Повезли четыре спектакля: «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» и «Гедду Габлер».