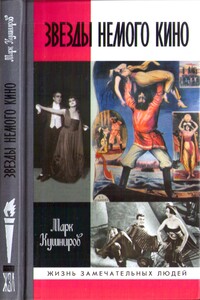Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 50
После спектакля Ольга Книппер писала Чехову: «Прошли «Одинокие» с неожиданным блестящим успехом, а мы совсем приготовились если не к провалу, то к очень среднему успеху, и вдруг — овации!» О Мейерхольде она умолчала, но пресса не постеснялась назвать вещи своими именами. Резко отозвались и «Русская мысль» («Перед нами тип неврастеника, неустойчивого, бессильного, нигде и никогда не способного найти удовлетворение»), и «Русские ведомости» («Слаб в Иоганнесе-Мейерхольде мыслитель, энтузиаст возвышенной мысли и смелого порыва, человек, который головою выше толпы»), да и прочие издания писали как бы в унисон. Опытнейший Кугель в «Петербургской газете» категорически заявлял об отсутствии у Мейерхольда «таланта вообще». (Правда, Кугель не любил МХТ так же, как Мейерхольда — вообще).
Да, Чехову очень нравилась пьеса — каюсь, ибо не разделяю его восторга. Герои ее одноцветны, в том числе и главный — весьма невнятный мыслитель, склонный к истеричному и надуманному, в сущности, одиночеству. Сам конфликт отдает ординарной мелодрамой, припудренной интеллигентской болтовней (что-то вроде той самой простоты, что сродни воровству). Восторженная характеристика героя, данная ему героиней — передовой русской девушкой (скорее молодой дамой), — практически голословна.
Почти то же самое произошло со следующей, несколько более содержательной ролью нашего героя — Тузенбаха в чеховской пьесе «Три сестры». Впрочем, содержательность этой пьесы тоже бледновата — с моей точки зрения. Это самая слабая, самая дидактичная из пьес Чехова. Но все же Чехов есть Чехов, и для актеров пьеса достаточно благодатна — там есть что играть. В наименьшей мере это есть для Мейерхольда, хотя может легко показаться, что роль написана специально для него. Но это только на первый взгляд. Автору просто некуда было деть своего плосковатого, нимало не обаятельного ритора, и он «оживил» его бесстрастной любовью, дуэлью и экзотичной фамилией. У Мейерхольда, в сущности, и не было другого выхода, как педалировать его неврастеничность. Но в Треплеве неврастеничность была живой — энергичной, самоедской, худо-бедно творческой. Здесь же Станиславский измучился с актером — тот был зажат и скучен.
«Как я ненавидел Станиславского, когда играл барона Тузенбаха! — много лет спустя вспоминал Мейерхольд. — Тузенбах выходит, идет к роялю, садится за него и начинает говорить, но только было я начинал, как Станиславский меня возвращал. Я весь кипел. Тогда я не понимал, что Станиславский был прав. Но потом, когда я сам стал режиссером и в то же время играл, я понял, что когда барон Тузенбах выходил к роялю, то получалось впечатление, что он не произносит слова, а читает их. Чтобы речь получала впечатление, что мы говорим то, что думаем, — надо произносить слова, а не читать».