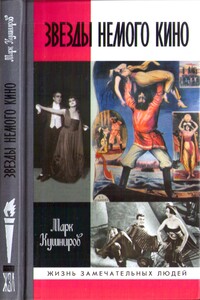Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 44
Мейерхольд получил роль Василия Шуйского, лукавого царедворца, не столько умного, сколько хитрого злодея — и грамотно сыграл ее. Критика не имела к нему претензий, но и на похвалы была скуповата.
«Царь Федор», в сущности, не был еще полноценным новаторским спектаклем. Мейнингенские принципы были удачно подхвачены театром, талантливо реализованы, но это был все тот же традиционный русский театр, превосходивший «соседние» театры своим вкусом, своей театральной эрудицией, своими острыми и четкими мизансценами, своим эффектным реквизитом. Не думаю, что Орленев сыграл царя Федора хуже Москвина (в театре Суворина в Петербурге), но, судя по мнению очевидцев, он и здесь выступал, как всегда, классическим солистом. Его ролью, ее драматической обреченностью удобнее было любоваться, нежели переживать. В принципе Мейерхольд уже застолбил за собой амплуа Орленева — амплуа интеллигентного неврастеника — и даже преуспел в нем, прежде всего в чеховской «Чайке».
«Чайку» патронировал Немирович. Будучи сам посредственным (мягко говоря) драматургом, он умел различить в неизвестной пьесе высокий талант и был готов порой положить душу, дабы пьеса увидела сцену. Так было с «Чайкой». (Конечно, и у него — вкупе со Станиславским — случались проколы, как со знаменитой найденовской пьесой «Дети Ванюшина», — но это, как правило, были именно случайности.)
Станиславский по части вкуса был более консервативен — как известно, он не разглядел поначалу в чеховской «Чайке» никакой новаторской сути. Его отношение разделяли многие современники, на все лады возмущаясь спектаклем, показанным в Александрийском театре за два года до московской постановки. Чехвостили и спектакль, и автора, который принял провал близко к сердцу и зарекся сгоряча вообще писать пьесы. Но самолюбие, симпатия к новому театру и его людям заставили его решиться и дать согласие на новую постановку. Станиславский — воплощенная ответственность, — подчиняясь настоянию ближайшего компаньона, взялся за режиссерскую разработку. Уже через полмесяца Немирович писал: «Вот поразительный пример творческой интуиции Станиславского как режиссера. Станиславский, оставаясь всё еще равнодушным к Чехову, прислал мне такой богатый, интересный, полный оригинальности и глубины материал для постановки «Чайки», что нельзя было не дивиться этой пламенной, гениальной фантазии».
Дальше — больше: «Многое бесподобно, до чего я не додумался бы. И смело, и интересно, и оживляет пьесу… Ваша