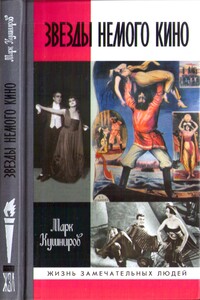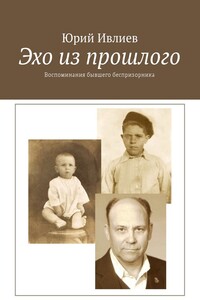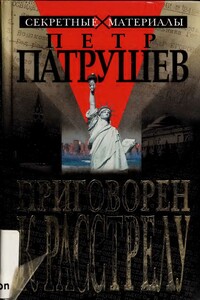Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 4
Да, ему случалось впадать и в гордыню, и в оскорбительное высокомерие, но все равно он был честен и благороден. Лишь изредка, когда до мозгов его — вдруг! — доходила смертельная угроза его делу, его творческому (а заодно и житейскому) благополучию, спохватывался и нехотя проявлял видимость компромисса, видимость раскаяния и покаяния. Так было надо. Так было тоже честно… по-своему.
Честным он был и в своей личной жизни. Бескомпромиссно, подчеркнуто честным. Без памяти влюбившись в Зинаиду Райх, моментально отрубил все связи со своей бывшей семьей. Вызывающе приплюсовал к своей фамилии фамилию новой жены, став Мейерхольдом-Райх, признал своими обоих ее детей, полюбил их… (Воображая травму его первой жены, эту честность можно было б назвать жестокой и, пожалуй, даже циничной, но резон был и с его стороны. Травма жены была неотвратимой, фатальной, и глупо было её расковыривать.) Жгуче, всеми фибрами души обожал он свою Галатею, рабски поклонялся ей, хотя про себя ведал (не мог не ведать!), сколь ограничен ее актерский талант.
Он знал о ее «тайных» и отнюдь не безгрешных свиданиях с бывшим мужем Сергеем Есениным. Знал, а порой догадывался и о других ее амурных увлечениях. Всё прощал ей — и блажь, и суетность, и припадочную истеричность, и безудержное самолюбование, и — что таить греха! — едва ли не болезненно-повышенную сексуальность… Да, иногда ради любви он заходил за край — за край добропорядочности (скажем так). Не жалел самолюбия близких людей, тем более далеких. Но и тут оставался прямым и честным. Да ведь и муза его не была абсолютно пустым местом. Он с ходу, «по запаху», ощутил в ней искру дарования. Это была не простая страсть — азартная, режиссерская. Его одержимость была в известном смысле оправданна — тут было что отделывать, шлифовать… сотворять.
Он был честен, когда увлеченный и опьяненный революциями (1905 года, Февральской, Октябрьской), удивлялся, «почему солдаты не приходят в театр и молча не освобождают его от партерной публики». Почему не выгоняют интеллигенцию «туда, где процветают эпигоны Островского», почему медлят освободить сцену для современных драматургов, а зрительный зал «для крестьян, солдат, рабочих и той интеллигенции, которая скажет: довольно спать!» Был честен, когда влюбился в победившую ленинскую диктатуру, когда вступил в партию, когда возглавил ТЕО (Театральный отдел Наркомпроса). Когда он — капризный и тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, вспыльчивый, самовластный диктатор, — оказался среди тех деятелей русского искусства, которые с восторгом приняли большевистский террор. Его, как и их, не смущало, что вчерашних друзей и коллег расстреливают по ложным доносам и без оных, изгоняют из России, травят нищетой и голодом. Свою задачу он теперь видел в том, чтобы средствами агитационного театра помогать новой власти отряхнуть с ног замшелый, закоснелый, ретроградный буржуазный прах.