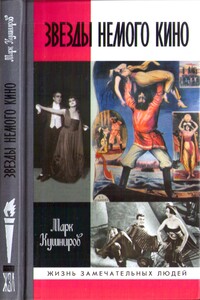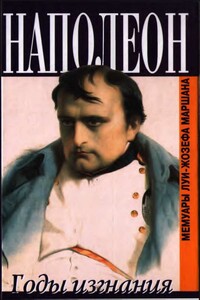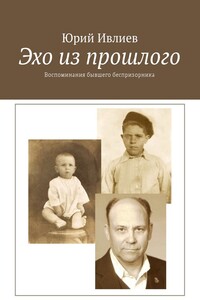Мейерхольд: Драма красного Карабаса | страница 3
Увидев его рядом, я немного растерялся и пролепетал: «Можно мне взять эту книжку… почитать?». — «Возьми, если обещаешь никому про нее не рассказывать… Возьми насовсем. В подарок». Я задохнулся от благодарности и наивно спросил: «Никому-никому?» «Матери можно… Дай надпишу».
И написал — карандашом — одну лишь фразу: «О чем знаешь — молчок!»
Эта книжка, ставшая заветной, до сих пор у меня.
АГОНИЯ
Пошли мне бури и ненастья,
Даруй мучительные дни,
Но от преступного бесстрастья
И от покоя сохрани…
Иван Аксаков(одно из любимых стихотворений Мейерхольда)
Теперь я знаю: он был обречен. Обречен заранее — за десять лет до гибели. Обречен садистски-злобно, мстительно… кроваво. Его агония готовилась исподволь, методично. Как говорится в популярной пословице, «из «ледка в жарок, из жарка в ледок». Всё последнее десятилетие его жизни, начиная с первых пагубных побед сталинской революции, эта агония — то умеряясь, то обостряясь — давала о себе знать. Но он, подобно многим его коллегам, неприятелям и сотоварищам, не принимал это всерьез. Не слышал. И не слушал. Ибо не хотел ни слышать, ни слушать.
Как не вспомнить великого Михаила Чехова! Как не поразиться его прозорливости!
1930 год, Берлин. Триумфальный вояж ТИМа — Театра имени Мейерхольда. Полные залы. Аплодисменты. Восторженные статьи. И — приватный разговор в отеле. Эмигрант (Чехов), Гастролер (Мейерхольд) и звезда его театра, его Галатея, его боготворимая муза — Зинаида Райх. Долгий разговор мужчин завершается двумя встречными фразами. «Не возвращайтесь в Москву, — говорит гениальный артист. — Вас там убьют… расстреляют». — «Вполне возможно, — соглашается гениальный режиссер. — И всё же я вернусь. И знаете почему? Из честности». В разговор истерически врывается муза. Грубо обрывает Чехова: «Не смейте так говорить! Вы не имеете права! Вы предатель! Не слушай его!» (Мейерхольду.) Режиссер повинуется — Райх была единственной, способной укротить его непокорный нрав.
Мейерхольд был вечным смутьяном. Вечным и бескорыстным провокатором — легкомысленно-бесстрашным и при этом бескомпромиссно честным. Этой наивной и принципиальной честности он держался всю жизнь, с ранней юности. Держался даже тогда, когда «спотыкался» и позволял себе (как правило, под горячую руку) явную несправедливость. Вечная тема «гений и злодейство» по отношению к нему звучит особенно остро: слишком многие — даже те, кто восхищался им, — видели в нем капризного деспота, не дававшего жизни ни родным, ни коллегам, ни тем более актерам его театра. Говорили, что именно с него Алексей Толстой списал своего «доктора кукольных наук» Карабаса-Барабаса — классического сказочного злодея.