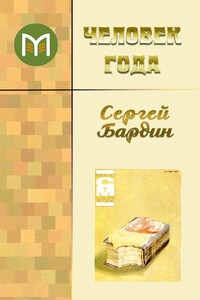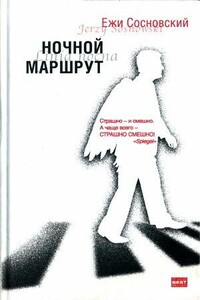Пастораль | страница 5
Вечерами Полуянов работал допоздна. Соседка его Анюшка, у которой доброта и мягкость были как-то неявно связаны со слезящейся голубизной глаз, говорила, зевая: «Отсмотрю телевизор, а у него свет горит. Работает, значит, бедный». И Полуянов вспомнил, как в детстве он читал у писателя Паустовского, что лоции то ли Гаронны, то ли Луары включали в себя «окно господина Флобера», имевшего привычку работать по ночам. Полуянов представлял, как со стороны леса в черноте деревеньки светится и его единственное окно, и от этого делалось хорошо на душе и немного тревожно. Хотелось погасить свет, стать невидимкой, раствориться в этой ночи. Хотелось думать про места, в которых люди не боятся горящего в ночи огня своей лампы, хотелось думать, что ты тоже смог бы чего-то добиться и достичь. После Анечкиных слов он чувствовал, как по спине бегают мурашки удовольствия, и давал себе юношеские зароки. Он обещал себе трудиться, трудиться долго и беспощадно и добиться в конце концов того, чего дадут от него жена, сын, отец, мама и мама его жены.
Рецензии обычно начинались фразой; «Уважаемый имярек! Ваша рукопись (статья, письмо) прочитана в редакции журнала». Дальше в пяти-шести вариантах шли мотивировки отказов, разбор несостоятельного изобретения, ответ. Иногда порядок нарушался, попадалось что-то дельное: предложение, научная работа, просто человеческий голос или идея. И тогда из-за бумаги перед Полуяновым появлялся человек. Виделось далекое такое же окошко, и тоже лампа, и листы бумаги, склоненная фигура и лицо, которого всегда было не разобрать:
Тогда писалось в ответ много и горячо, хотелось убедить, помочь, и, наверное, дело было именно в желании помочь — дальняя эта и невидимая связь между консультантом и его адресатом часто срабатывала.
В один из таких дней, в пятницу, Полуянов пошел в баню с дядей Веней, в деревню Чернавки. Идти надо было через кладбище, за два поля, по тонкой стежке, по которой доярки бегали на ферму: маленькая, как девочка, Зойка и сестра ее, широкая и пожилая Саня. «Здрасьте», — кричала ему Зойка, пробегая на своих легких ножках. Она трезвая была и веселенькая, и миленькая. А Саня тяжело проходила мимо и говорила:
— А, приехал. Ну здравствуй, барин.
В тот день Полуянов шагал за дядей Веней, позади, стараясь не влезть в грязь и не поскользнуться. А дядя Веня уверенно и упорно шагал впереди него, ставя сапоги крепко прямо в самую непролазную грязь, выворачивая носки. Шел плотно, цепляясь за землю, по-плотницки, по-солдатски. Веня и со спины, и спереди, и сбоку, и издали больше всего походил на серого волка, поставленного на задние лапы. Он по ровному ходит так, будто лезет в гору. Он и трезвый-то странен, заморожен, как будто искусственный, неживой. Ему сперва надо увидеть, — это целое дело — потом понять, потом понять, что понял. А уж тогда он станет здороваться или отвечать. Таков он, странный человек. А выпив, он впадает в какой-то оскал изумления, рот у него отваливается, кожа стягивается. Образуется у него улыбка, страшнее которой Полуянову видать не приходилось. Глаза у дяди Вени горят, и, желая выказать человеку величайшую великодушную дружбу, он отводит мускулы рыжих худых щек и обнажает глубокий оскал серых и голубых зубов, которые в полуяновском детстве назывались «улыбка скелета». Он прожил трудную жизнь, дядя Веня, о которой тут не место говорить, горел в погребе мальчишкой, был раскулачен, сидел в детприемниках, голодал в ремеслухе на Урале, бежал, сидел и снова сидел. Жизнь заставляла его улыбаться каждому встречному, но улыбаться его разучила — как и многих других. И потому глаза его горят, как угли в темноте, от ненависти, а после трех стаканов он начинает видеть духов и петь гимны.