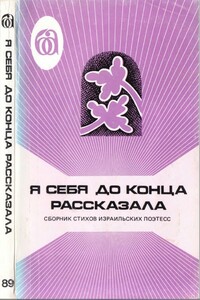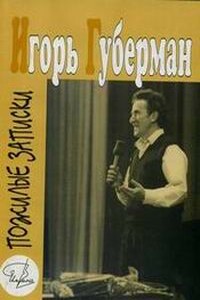Скопус-2 | страница 96
После смерти Михоэлса, а особенно после того, как труп Михоэлса выкопали и выбросили, после того, как Зускин сошел с ума в камере, а «Дер эмес» закрыли, после всего этого, после трех допросов и недельной бессонницы в комнате управления внутренних дел мой знакомый вдруг постарел, засеребрились волосы, аккуратно уложенные над высоким белым лбом, а четкую картавую скороговорку стало труднее разбирать. Я плохо знаю, чем он жил эти годы. На что он покупал еду для себя и для семьи? Правда, в его библиотеке остались только книги, связанные с еврейством, на двух еврейских языках — древнем, святом, и новом, который даже он сам называл жаргоном. Все остальные книги ушли…
Потом он снова ожил. Писал заметки в журнал Арона Вергелиса и с гордостью показывал письма на фирменных бланках журнала, печатал воспоминания о расстрелянных писателях, реабилитированных после пятьдесят шестого. Я помню по складам переведенное название из французской газеты, в титуле которой было слово «жюиф»[28]. Он написал о ненужном уже юбилее Галкина. Он дарил мне дублетные экземпляры французских, румынских, австрийских газет, марки зарубежных стран. Иногда книги на идише. Так у меня появилась Дора Тейтельбойм с автографом (у него были две книги с почему-то одинаковым автографом — «Балладе фон Литл-Рок», парижское издание). Он первый ввел меня в таинственное царство квадратного еврейского письма, в его сеголы и камацы[29], он первый показал мне толстые тома Греца и Дубнова, сафрутовские сборники с переводами Ходасевича и молодого Маршака, у него я впервые увидел «Еврейскую энциклопедию». Иногда он мне читал что-нибудь на идише. Язык звучал в его устах карикатурно: испорченный немецкий с французским грассированием и местечковыми подвываниями на концах фраз. И все-таки это был язык моего народа, и о том, что этот народ — мой, я узнал от моего знакомого.
Последние годы нашего знакомства он стал относиться ко мне со смешанным чувством насмешки и уважения: с одной стороны, я много и щедро печатался в тех советских газетах, где хотел печататься и он, с другой стороны, я так мало знал, что его дореволюционная энциклопедичность восставала против моего невежества. Я платил ему тоже смешанными чувствами: меня смешили его претензии последнего еврейского журналиста, все эти «от нашего корреспондента» и «ваш корреспондент», набранные петитом славянского шрифта и еврейскими крючками, меня бесили его наивные, как мне казалось, рассуждения о нашем времени, меня раздражал его чересчур правильный, я называл его дистиллированным, русский язык. Иногда во мне просыпалось горькое и чуть пряное чувство умиления его беспомощностью и наивностью, иногда я смотрел на него с холодным и надменной отстраненностью начинающего писателя. А он не нуждался ни в том, ни в другом.