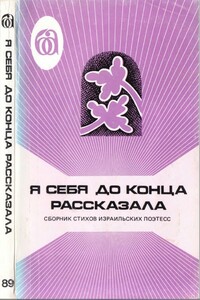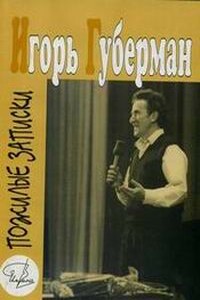Скопус-2 | страница 94
Ребята выучат камешки наизусть по красивым, все отмечающим стежкой и краской картам.
Тихо. Знакомый осел пасется, покладистая мордаха. Над затемненной землей полоснула беззвучно ракета: марш — бросились — марш! Далеко пропустивший и первый, и второй свой сон, запоздавший какой-нибудь житель, выглянув в чистейшую иерусалимскую ночь, скажет: «Снова учения».
Из соседних башен[27], прикрытых рощей, высунутся бинокли: все ли тихо у нас с Иорданией?
Они рвут через холмы, цепляясь за землю, наперегонки с рассветом, у них выучка, это не то, что я, что мы во снах — за теми, бывшими холмами, шарим, шарим, ну никак не выбраться, а если и нашарили ступеньку, то никак не перевалиться через порог, хотя извиваемся изо всех сил, взбалтываем в воздухе ногами и почти выворачиваем плечи.
А на город ложится зарево, уже высвечены Восточные Ступени, вот-вот разольется утро.
С рассветом (еще Соленое днище будет темнеть) мы прорвемся в Ерушалаим.
А еще можно, как дикие козы, по вершинам, скашивая углы.
Можно вовсе не задевая, как планеры. От дома до моря снижаться на планере, а обратно — надо придумать моторчик вроде пчелы: антиэнтропийное жальце, не зудливый, как вертолет, а просто — разбегаешься, поджимаешь ноги, а он сохраняет скорость. Приземляться же — у бойлеров на крышах, там будет личная стоянка каждого, а от солнечного удара прикрепить зонтик из парашютного шелка.
Будем мы, пропеченные стрекозы, жужжать под зонтиками и разглядывать землю.
Пока же только дети и солдаты, когда идут предрассветными маршрутами, — только они видят землю. Не потому, что солдаты — недавние дети, но они обнимаются с нею вдосталь, прижимаются, ползут, замирают на ней часами, — так дитя, удрав в крапивный лопушный огород, оттянувши руками заросль, задыхаясь, рассматривает мир отыскиваемый, окликаемый и не слышит встревоженных голосов.
А когда изобретут планер-стрекозу, вы увидите все.
1983–1984
Александр Воловик
Ваш корреспондент
Он очень хорошо говорил по-русски. Легкая картавость, редко проскальзывавшая в его речи, шла не от природного недостатка, а от привычки правильно говорить и на других языках, скажем, по-французски и на идише. Он был, по моим понятиям тогдашним, странно образованный человек. Он дотошно знал все, что можно было узнать до 1917 года, — Ницше и Макса Нордау, Гершензона и Волошина, художника Судейкина и критика Георга Брандеса, малоизвестную даже тогда поэтессу Нэлли и широко популярного Фореля. Кроме того, что все они плотно сидели в его аккуратной круглой головке, их золоченые тома и тонкие пыльные тетрадки в изобилии находились на стеллажах его квартиры, заполненной запахами еврейской кухни и шарканьем шлепанцев тихой при посетителях жены. Я нисколько не пытаюсь осмеять эти его знания, потому что они были истинными и глубокими, вовсе не спекулятивными, и широко применялись. В разговорах, в старомодно вежливых и подробных объяснениях, которых, если признаться, я по молодости своей и не стоил.