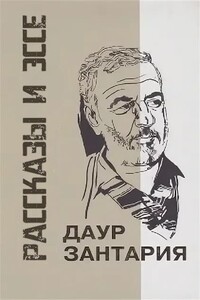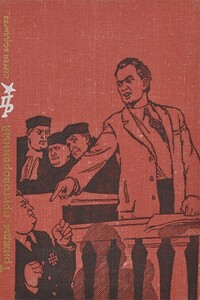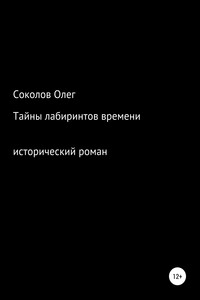Енджи-ханум, обойденная счастьем | страница 4
Химкорасу она не помнила. Сейчас, сразу смирившись с судьбой, Енджи-ханум хотела думать о нем хорошо. Ее чистая душа тосковала по наслаждению. От объятий ее попискивал медвежонок, выписанный для нее недавно из Истамбула вкупе с другими игрушками. Если бы медвежонок был живой, он наверняка бы захлебнулся от счастья, ибо Енджи-ханум обладала плотью, способной сокрушить крепости. Она смеялась, целуя безжизненного медвежонка, орошала слезами его каракуль.
Как всегда, бесшумно вошла придворная. Несколько минут она стояла, наблюдая, как госпожа возилась с медвежонком.
— Госпожа, пришел Соломон, — произнесла она наконец.
Княжна вскочила, как будто проснувшись, отложила в сторону медвежонка, и на лице ее появилась тревога.
— А Георгий не видел его?
— Нет, я провела его через галерею.
— Тогда проси.
Придворная открыла дверь, и вошел Соломон. Он шел, ставя ноги так, словно двигался по начертанной линии. Левую руку он заложил за спину, правой придерживал на груди, как треуголку, свернутый лист. По твердой походке, по решительному взгляду — по всему было видно, что он смущается под взглядом Енджи-ханум. Военный мундир туго обтягивал его, на плечах красовались эполеты поручика; хотя он был молод, грудь его украшали три награды. Шпоры его ритмично постукивали по паркету. Енджи-ханум печально глядела на него. Она пересела в кресло. Соломон подошел своей твердой походкой, изящно поклонился и страстно припал к ее руке.
— Как ваше здоровье, драгоценная Русудан? — наконец, отпустив ее руку и выпрямившись, спросил он на русском языке.
— Тоскливо мне, — по-абхазски ответила ему Енджи-ханум.
Соломон игриво изменил выражение лица, преувеличенно удивился, но, что-то прочитав на ее лице, вдруг побледнел. Смолчал.
— А ты-то как, Соломон?
Соломон чувствовал перемену в Енджи-ханум, не понравились ему и слова ее о тоске и что она называла его не домашним именем Бата, как обычно, а Соломоном. Он догадывался, что произошло нечто важное, но не успел спросить, как что-то вскипело в нем, подкатило к горлу и заставило его говорить:
— Каким прикажете мне быть, драгоценная Русудан, ежели я люблю вас и с каждым днем все сильнее и сильнее, все более и более покоряемый чувством; я люблю вас, не ведая, что меня ждет в грядущем, не зная, кто я: счастливейший в сем мире или несчастнейший! — Он говорил красивым грудным голосом по-русски.
Енджи-ханум слушала закрыв глаза и не отнимая руки, которую он снова страстно целовал. Слова любви не ласкали ее слуха теперь, как прежде, теперь, когда вся она была покорена мыслями о предстоящей новой жизни. Она хотела не откладывая тут же дать ему знать, что их отношениям необходимо придать иной характер, что все прежнее было по молодости и не могло быть долговечным, но понимала, как тяжело могли ранить друга ее юности слова, в кои надо было облечь эти мысли. И не решалась говорить. Как бы то ни было, думала Енджи-ханум, не скажу ему о Химкорасе — о, как непривычен для уха звук его имени, как страшит! — ибо душа подсказывала ей, что Соломон, услыхав это имя, может сказать что-то надменное и оскорбительное, как обычно говорят о горцах. Тогда она возненавидела бы Соломона и не смогла бы его простить. Енджи-ханум хотела незамутненными сохранить в душе воспоминания о Соломоне. Она подняла голову и посмотрела на него долгим извиняющимся взглядом. Соломон побледнел. Он направился в противоположную сторону покоев.