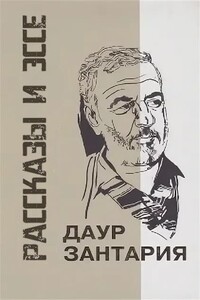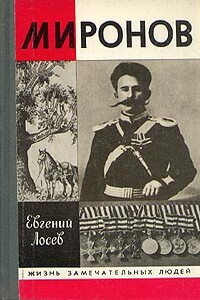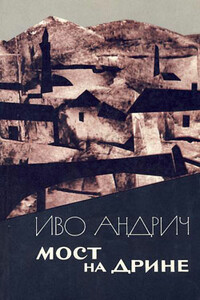Енджи-ханум, обойденная счастьем | страница 13
Он нагнулся и, как вчера, прикоснулся губами к ее щеке. Она вздрогнула. Потом… Дай свое благословение, Золотая владычица Анан[7]! Все существо ее застенчиво пошло навстречу законному наслаждению. Чего же он тянет, бедолага? Дай свое благоволение, Золотая владычица Анан! Почему он задумался, почему он мешкает? Где ей было знать, что не мог он спешить в этот миг и задумался, изумленный тем, что не почувствовал себя способным спешить. Помоги мне, Ах-ду[8], в чьей власти мужество, рождение и развитие. Даю обет: принесу тебе в жертву лучшего своего быка. Помоги мне, Ах-ду! Он глядел на нее, и в полутьме она казалась ему печальной, она была вся свеченье, мерцающее, дрожащее. Сердца их стучали, как бы нагоняя друг друга.
Это слышала и она. Сладкая боль прощения и любви встала поперек горла, опять с раскаяньем она вспомнила, как плохо она думала о нем вчера. И он, темноокий, жесткий, холодный, сейчас стал, как ей показалось, мягким и нежным. Она почувствовала на сердце радость. Мягким-то и нежным он стал, но знала ли она, что не мягкость и нежность могли сейчас утолить ее сердце и не это он искал, бормоча и вслушиваясь в себя.
Дай мне силы… Ах-ду… лучшего быка из стада… Он не верил тому, что случилось с ним. Не хотел он верить в то, о чем и не подозревал до сегодняшнего вечера, во что и сейчас не верилось гордому горцу. Прошло бесконечно много времени. А он все вслушивался в себя. Постепенно она привыкла к его рукам, бесплодно скребущим по ней, как щенок по ковру.
Она догадывалась, в ней все ожесточенней боролись жалость и раздражение. Благодаря маленькому опыту с Соломоном и сплетням нянек она кое о чем знала. Догадывалась, что в ее власти было ему помочь, но этого ей не позволяли гордость и невинность.
В тишине раздавалось только частое дыхание обоих.
Вдруг издалека до слуха ее донесся раздирающий душу лесной крик.
— Шакалы бродят… — выдохнул он, надеясь, что на мгновение возможно отвлечь ее мысли на что-то другое, желая выиграть время.
Даже это поняла она.
«Я тебя не спрашиваю, ходят ли шакалы, несчастный!» — подумала она, обуреваемая тоской и стыдом, смущением и раздражением, постепенно приходя в себя.
На другой день с утра Химкораса не показывался невесте. Он ждал ночи. А на третье утро встал до рассвета, побрил голову, оделся и уехал в путь. Около двух недель его не было. Он ходил к далеким селеньям. Вернулся, снова уехал. Бывал дома ровно столько, чтобы не возникли досужие разговоры. А жить в родном дому не мог. Совершенно охладел к белому замку. Юная жена его и он застенчиво прятали друг от друга глаза.