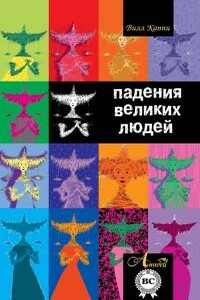Красная звезда и зеленый полумесяц | страница 87
Чтобы показать массовый характер этого движения, достаточно упомянуть, что к концу 1930 года в борьбе с неграмотностью участвовало свыше 1 млн. культармейцев. Грамоте были обучены десятки миллионов людей. Особенно разительными были достижения в национальных районах. В Таджикской ССР к концу 1932 года уровень грамотности поднялся с 4 до 52 процентов, в Туркменской ССР — с 13,5 до 61 процента, в Узбекской ССР — с 12 до 72 процентов и в Закавказье — с 36 до 86 процентов.
В этом «культурном наступлении» участвовали десятки тысяч добровольцев: преподаватели, ученики старших классов, служащие предприятий, железнодорожники — члены партии, профсоюзов и комсомола, — все те, кто имел хоть какое-то образование. В жилых кварталах городов, на предприятиях, в кишлаках и аулах они создавали группы по обучению грамоте и письму. Чтобы не нарушать обычаи, для женщин создавали отдельные кружки. Появились также «красные чайханы», которые были очагами пропаганды и культуры. Крестьяне учились в них читать, а затем могли пользоваться имевшимися там книгами, журналами, газетами. Сюда же приходили послушать лекции на самые различные темы.
Кампания по ликвидации неграмотности охватывает и самые отдаленные уголки. На стойбищах погонщики верблюдов и пастухи открывают написанные на их собственном языке буквари и первые в их жизни книги.
Со времени исламизации Средней Азии грамотные люди говорили здесь на тюркских или иранских наречиях и пользовались арабскими письменами, плохо передававшими звучание устной речи. Уже в XVI веке великий азербайджанский поэт Физули говорил, что необходимо создать новый алфавит, который бы лучше выразил тюркские наречия. Эту же идею не раз высказывали и после него, но ее практическое осуществление всегда наталкивалось на противодействие мулл, которые видели в отказе от арабской письменности, использованной для создания Корана, покушение на саму религию.
После революции здесь продолжали пользоваться традиционной графической системой, но вопрос о ее замене системой, более подходящей к языку и более простой для усвоения, ставится заново. Поначалу, в конце 1920-х годов, в Средней Азии начинает использоваться латинский алфавит. Затем начиная с 1939–1940 годов принимается (с некоторыми незначительными изменениями) кириллический алфавит. Эта реформа не была, как это пытаются представить некоторые авторы, навязана Москвой. Она явилась плодом долгих обсуждений, проведенных советскими ориенталистами и филологами, среди которых, разумеется, были представители среднеазиатских национальностей, в том числе, например, один из создателей современного узбекского алфавита академик Т. Н. Кары-Ниязов. Естественно, что нововведение имело и политическое значение: применение нового алфавита должно было укрепить союз разных народов и культурный обмен между ними. Такое решение вопроса ни в коей мере не было навязано сверху. При других условиях, например, армяне и грузины продолжали пользоваться уже имевшейся у них письменностью.