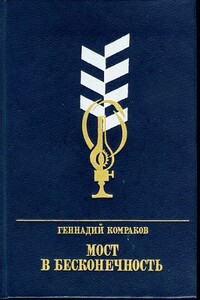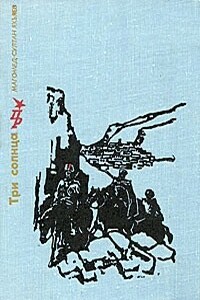И подымется рука... Повесть о Петре Алексееве | страница 18
— Есть ли у кого-нибудь желание возразить Грязнову или согласиться с ним? — Цвиленев обвел вопросительным взглядом сидевших за столом.
— Позвольте мне, — не поднимаясь, сказал Алексеев, — Грязнов, ты не прав. По-моему, вот именно полезно для нас, что человек написал правду про наше с тобой положение. Правду эту узнает Россия…
— А то Россия не знала! — выкрикнул Василий Грязнов.
— Вся Россия, конечно, не знала. Ну, горсточка людей знала, конечно. А теперь все будут знать. Все, кто книги читает. А что это значит? А то, что кто-то — ну, конечно, не все — прочтет книгу и решит, что должен помочь нам. Будет бороться. Вот что.
— Алексеев прав, — вмешался Цвиленев. — Чем больше людей узнает правду о вашей жизни, тем будет больше борцов с несправедливостью. Царское правительство боится правды. Если бы книга не была опасной для правительства и для фабрикантов, автора не преследовали бы, книгу не запрещали бы. А что опасно для правительства и для фабрикантов, то вам на пользу.
Возвращался Алексеев к себе вместе с Иваном Смирновым.
— Знаешь, Иван, я так полагаю, что от этих новых занятий на Монетной толку, пожалуй, больше, чем от тех, прежних.
— Да, эти студенты быка берут за рога, как говорится. И правильно, что Цвиленев читал сегодня этого Флеровского.
— Ты понимаешь, ведь вот, оказывается тот же Флеровский или Лавров, скажем, люди большого ума, что и говорить, светлые головы, образованные, а думали уже о нашем с тобой житье. Думали о темном народе!
— А ты что ж полагал? Никто не думает о том, чтоб нашу жизнь изменить? Думают, Петро, думают! Вот и мы теперь узнаем с тобой, как и что они думают.
— Образованная русская молодежь, значит, за нас, за мастеровых, за крестьян, а, Иван?
— Ну, не вся образованная молодежь. Есть и такие, что за чинами гонятся. Но хороших людей среди образованных много, брат. Очень много. Видал, студенты какие!
— Послушай, Иван. Я вот что подумал. Вот они окончат свое учение. Ведь они помогут, как ты счи-таёшь? Пусть только сами на ноги станут, пусть они только станут Россией, так ведь и нам тогда легче станет? Ведь все переменят. Ведь переменят, Иван?
— Надо думать, что так, — вздохнул Смирнов.
— Сколько еще терпеть осталось? Лет пять — семь. Ну, крайний срок — десять лет. Так ведь?
Петр не сомневался в том, что все переменится, — уверовал в это твердо, свято. Как именно переменится, что именно в России перевернется, не представлял себе. Но уж раз переменится, то, ясное дело, к лучшему. Во-первых, порукой тому, что к лучшему, — само студенчество. От недавнего его недоверчивого отношения к этим молодым людям, отпустившим бородки, ругающим почем зря правительство, полицию и фабрикантов, ничего не осталось.