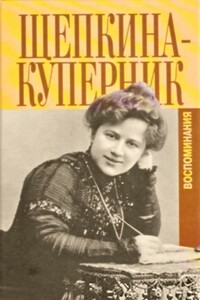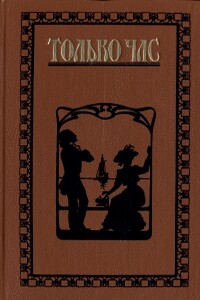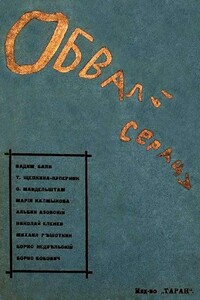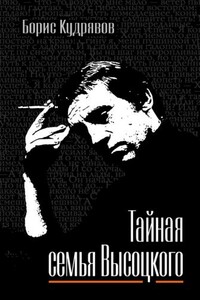Ермолова | страница 45
Чем сложнее была роль, тем вольнее чувствовала себя артистка, большой корабль ее дарования вольно купался в необъятном море той «лирической поэмы дивной красоты», как говорит Мария Николаевна, которой была для нее эта пьеса. Стихийность подъема, пафос роли сочетались у нее с глубочайшим лиризмом образа, трогательностью его. Ее не смущало в нем отсутствие реальности, исторической достоверности. Ей нужно было, играя Орлеанскую деву, поведать людям лучшее, что задумал Шиллер (в произведении гениального поэта вымысел сочетался с художественной правдой), и она делала это уже с начала спектакля, в своем молчании, завороженная образом и его судьбой, властно распоряжаясь душой зрителя.
Видя эту пьесу, я никогда не могла уйти от мысли, что Мария Николаевна играет в ней самое себя. Убогое детство на церковном дворе у кладбища, неугасимая вера в свое призвание, кроткая любовь к матери и сестрам, необычайный дебют в шестнадцать лет, дорога славы, развернувшаяся перед ней, отрешение от личной жизни и обособленность в повседневности – все это сближало ее образ с образом Иоанны. Та же необыкновенная простота душевная, смиренная покорность своему «предназначению», то же сознание своего «ничтожества» и принятие своего «дара» с благоговением и изумлением, то же приношение себя в жертву своему призванию: все это помогло Марии Николаевне создать образ Иоанны.
Не довольствуясь своими впечатлениями, я приведу запись спектакля «Орлеанской девы», сделанную со слов дочери Марии Николаевны, Маргариты Николаевны, которая многократно в течение всех лет, что пьеса шла, – ребенком, подростком, взрослой женщиной – смотрела ее.
«Декорация пролога была такая: сельская местность близ местечка Домреми. На заднем плане – долина, слева часовня, справа, на переднем плане, на небольшом бугорке, старый развесистый дуб. Под этим дубом, обхватив колено руками, сидела в глубокой задумчивости Иоанна, одетая пастушкой: темно-красная шерстяная юбка с коричневым подбором, черный корсаж, белая рубашка, набедренная кожаная сумочка, волосы распущены по плечам. Слева на авансцене – ее отец, две сестры и три молодых поселянина беседовали между собой. Фигура Ермоловой, склоненная задумчиво голова, глаза, созерцающие что-то свое, – с момента поднятия занавеса приковывали к себе зрителя. Создавалась необычайная ситуация: то, что говорилось на сцене, казалось второстепенным. Центром внимания было молчание Ермоловой, эта бесконечная немая сцена. Молчание ее длилось, пока Тибо д’Арк повествовал о плачевном положении родины, устраивал сватовство дочерей, не прерывалось оно и тогда, когда Луиза и Алина обращались к сестре с советом последовать их примеру, и тогда, когда Тибо говорил с Раймондом, в сущности, направляя свою речь к Иоанне. Все это было бессильно нарушить ее задумчивость. Только появление Бертрана (явление 3-е) со шлемом и его рассказ о том, как цыганка навязала ему этот шлем, внезапно заставляли Иоанну поднять голову и, не оборачиваясь к нему, слушать его рассказ, в конце которого Мария Николаевна легко вставала, быстро подходила к нему и говорила свои первые слова: «Отдай мне шлем».