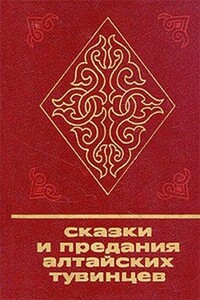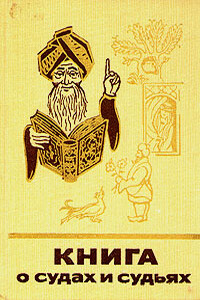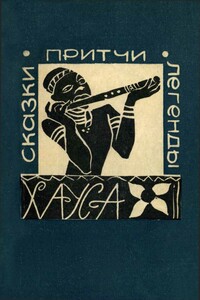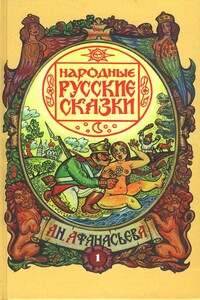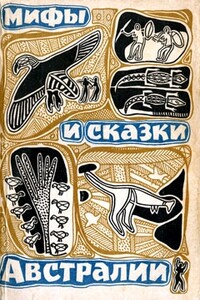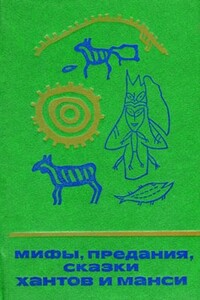Турецкие народные сказки | страница 23
Мы рассуждали так: в русских сказках (и по-русски вообще), положим, не говорят: «в один из дней». Но ведь это стилистически необычное для нас сочетание с точки зрения грамматики русского языка выражено правильно и для нас материально понятно. А если так, то мы должны брать именно его, поскольку оно выражено по-русски грамматически правильно и стилистически передает турецкий оригинал. Или еще пример. Нет ничего легче, чем заменить слова «было — не было» словами «жили-были», и тогда все возражения умолкнут. Но ведь тогда турецкая сказка по стилю совпадет с русской, а этого-то никак нельзя допускать, кроме тех, разумеется, моментов, где такое совпадение объективно существует.
Мы, конечно, отказались от того, чтобы при переводе турецких сказок пользоваться только тем лексическим запасом, к которому прибегают русские сказки. Но, с другой стороны, мы считали бы неправильным черпать из русского литературного языка такие слова и термины, которые по своей специфике явно не подходят для фольклора, носят характер модернизмов и т. д. Поэтому русской литературной лексикой мы могли пользоваться с довольно большим ограничением. Это соображение, в частности, побудило нас отказаться от употребления слова «юноша», которым удобно было бы обозначать героя сказок с точки зрения единства термина. Тем не менее мы считали, что слово «юноша» типично не для русского фольклора, а для старинных хроник и повестей, и в старом народном быту не употреблялось. Но этой позицией мы создали себе затруднения, обратившись к синонимам: парень, молодец и йигит (джигит) [28], из которых последнее является словарным новшеством, имеющим, однако, некоторую «зацепку» в распространенном слове «джигит», а первые два имеют специфический и довольно узкий круг употребления. Мы вышли из положения так: переводим «парень» там, где этот последний изображен в бытовом плане при благодушном и сочувственном отношении рассказчика, и «молодец» — там, где сказка строится в эпическом плане.