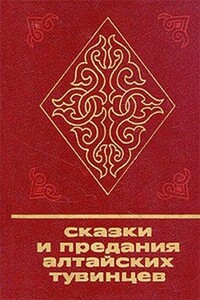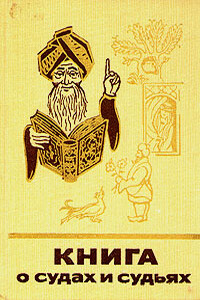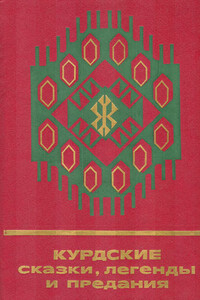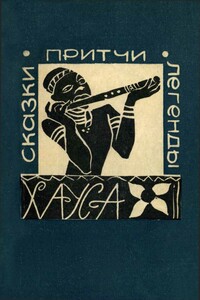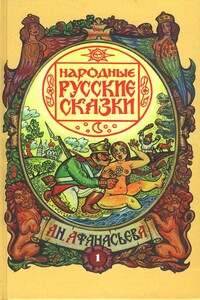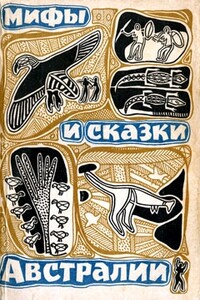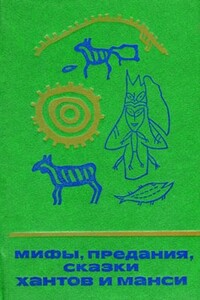Турецкие народные сказки | страница 22
Равным образом сохранены нами и другие типичные особенности турецкой сказки. Так, например, сказка, начав повествование со дня рождения героини, продолжает называть ее девушкой[26] на всем протяжении текста, хотя потом она несколько раз выходит замуж и становится матерью семейства. Точно так же герой для сказки — мальчик или молодец, хотя бы он по фабуле сказки уже успел дожить до седых волос.
Социальная характеристика в языке сказок (различие в языке везира и в языке дровосека и различие в стиле повествовательных частей, идущих «от автора») недостаточно дифференцирована: в известной мере это происходит от той методики записи, которой придерживался Кунош (см. выше главу I). Мы уже упоминали о том, что стиль полукнижных сказок сборника «Биллюр кёшк» отличается от других сказок нашего сборника высоким процентом арабско-персидских слов и конструкций, а также и общей тенденцией к «повышению стиля». Основываясь на этом, переводчик сохранил в этой сказке такие недопустимые в сказках вообще канцелярские и книжные выражения, как «упомянутый конь» (точное соответствие стоящему в оригинале арабизму мэзбур ат), термин «повествователи событий и передатчики преданий» (в оригинале— арабские слова в персидской конструкции: равиян-и-ахбар вэ наки-лян-и-асар), оборот «было это дитя полно всяких талантов» (сказка 54) и т. д.
Как образец канцелярского стиля можно привести речь везира из сказки 43; особенности этой речи переводчик, естественно, оттенял и по-русски: «Эфендим, постоим-ка здесь немного, узнаем, чей это дом: может быть, у них неотложная работа; если же это не так и если это — проделки, направленные только к тому, чтобы ослушаться приказа, тогда какое бы наказание вы ни повелели назначить, наложить его уже не составит труда».
Контрастом к этой речи является разговор бабки-повитухи из той же сказки. Вот отрывки из ее бесед: 1. «Это твои дети? Ну и красивые же они, не сглазить бы их!» 2. «Милые мои, с ума вы, что ли, сошли? Да с тех пор, как садовник их забросил в горы — вот уже сколько годов прошло! Теперь от них и косточек не осталось!» 3. «Хорошо, милые, я пойду разузнаю» и т. д.
К стилистическим особенностям принадлежат также некоторые ругательства (особенно в адакалийских сказках), которые в основном оставлены без перевода и только в очень незначительной дозе могли быть переданы соответствующими эквивалентами.
Техника перевода с турецкого языка на другие представляет значительные трудности в силу типологических расхождений турецкого языка с языками иных систем — в частности европейскими. Резко выраженный «синтаксический» тип языка с обусловленным порядком слов и необычайно пестрой лексикой (арабские, персидские, новогреческие и другие напластования) — вот что характерно для языка старой турецкой литературы. Иной конструктивный тип можно было искать, по-видимому, в фольклорной и разговорной речи; но этот тип до последнего времени полностью не выявился и не оказывал существенного влияния на язык литературы. Скорее наоборот: литературный стиль оказывал давление на фольклорный, получая явный перевес в таких, например, сборниках, как упоминавшийся выше «Биллюр кёшк». Существенной особенностью предлагаемых ниже сказок надо, однако, признать обилие идиоматических выражений, которые в прежние времена бытовали исключительно в устной речи и фольклоре. Как это ни странно, но традиции художественного перевода с турецкого на русский пока еще, пожалуй, не существует. Турецким языком обыкновенно занимались у нас востоковеды-филологи и фольклористы, которые, конечно, делали учебные и научные переводы в своих специальных целях, но к собственно литературным переводам не обращались. Больше всего сделал в этом отношении В. А. Гордлевский, переводы которого в «Восточном сборнике в честь А. Н. Веселовского» и в его собственном курсе турецкой литературы, конечно, стоят выше других, с точки зрения стиля и мастерства. Старые переводы В. Д. Смирнова