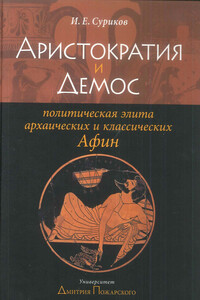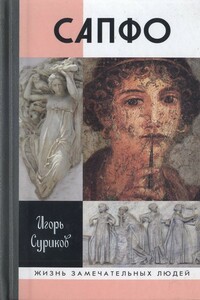Остракизм в Афинах | страница 13
Ситуация коренным образом изменяется тогда, когда остракизм выходит из употребления. Перелом наступает на рубеже V–IV вв. до н. э. Собственно, только теперь и начинает в полном смысле слова формироваться античная традиция об остракизме. Институт, отошедший в прошлое и продолжавший существовать лишь «на бумаге» (Arist. Ath. pol. 43.5), перестал быть понятной для всех очевидностью и нуждался отныне в объяснениях и истолкованиях. Постоянно возраставший в течение IV в. до н. э. интерес особенно к правовой, процедурной стороне остракизма[26] был обусловлен еще и общим увеличением в этом столетии внимания афинян к законодательным, правотворческим и вообще институциональным сторонам политической жизни[27].
Интересный материал об остракизме содержат, в частности, произведения ораторов IV в. до н. э., и в особенности самого раннего из них — Андокида. Андокид не пользуется в антиковедении репутацией очень достоверного автора; для него характерны весьма вольное обращение с историческими фактами (этим он выделяется даже на фоне других афинских мастеров красноречия, в целом не очень-то скрупулезных в данном отношении) и нескрываемая тенденциозность. Несомненным плодом путаницы является, в частности, упоминание Андокида (III. 3) об остракизме «Мильтиада, сына Кимона» (подробнее см. ниже, в гл. I). И тем не менее данные Андокида — раннего автора, еще заставшего в своей молодости остракизм в действии, — заслуживают самого пристального к себе отношения. И прежде всего следует сказать несколько подробнее о IV речи («Против Алкивиада»), входящей в корпус Андокида, поскольку остракизм является одним из главных компонентов ее тематики. IV речь, дошедшая под именем Андокида, — чрезвычайно дискуссионный памятник аттической ораторской прозы. Специальный разбор вопросов об авторстве этого произведения и времени его создания мы выносим в приложение I[28], а здесь ограничимся кратким суммированием сделанных в нем выводов.