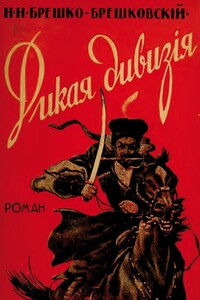Парижские огни | страница 23
Погиб Василий Васильевич Верещагин!
Погиб единственный русский "баталист Божиею милостью" если можно так выразиться.
Верещагин вдруг и резко порвал с царившей у нас до него "баталической школой". Когда он выставил свою кошмарную серию туркестанских картин и этюдов, где зафиксировал беспощадной кистью своей войну со всеми ее ужасами — повалившая густыми толпами публика увидела, что слащавым парадным баталиям Коцебу и Виллевальда пришел конец…
Увидела, что война не красивый смотр, где, лихо подбоченясь, гарцуют изящные ординарцы Виллевальда, и где для приличия, точно уснувшие, разметались в грациозных позах убитые. Словно герои гипсовых классов — "умирающие галлы" и гладиаторы!
Совсем другую войну, свою, Верещагинскую и вместе правдивую, реальную показал Василий Васильевич родине, Европе, показал всему свету…
В течение четырех десятилетий он систематически внушал отвращение и будил негодование к жестокой и кровавой человеческой бойне, именуемой войною.
Он воевал с нею. Щитом ему служила палитра. Шпагами — кисти. Убедительно и неотразимо умел Верещагин владеть своим оружием.
Недаром австрийское правительство "попросило" однажды Василия Васильевича снять с выставки картины, мотивируя свою просьбу тем, что "верещагинские документы" ослабляют воинственный дух австрийской армии.
Там же какой-то доброволец-фанатик облил две картины Верещагина серной кислотой, изуродовав их, что и требовалось доказать…
Вспомните хорошенько все виденные вещи погибшего баталиста. Их много, сотни, пожалуй, тысячи. И нигде, решительно нигде, за исключением разве "Бородина", вы не найдете момента сражения, боя. Всюду — либо до, либо после. Причины этому двоякие.
Во-первых — тенденциозные. Не отвлекаясь "движением", зритель глубже проникается сознанием закулисной неприглядности войны, ее изнанки. Во-вторых, причины чисто технические. Верещагин — ученик Жерома, знаменитого компоновщика. Жером своими батальными композициями первый сказал европейской школе:
— Не художественно и не убедительно будет, если вы изобразите момент какого-нибудь стремительного, бурного движения. На картине — занесенный над чьей-нибудь головой меч производит комическое впечатление. Молниеносное мгновение кажется в рисунке вечностью.
В самом деле, гораздо сильнее концентрируется настроение, когда мастер умно скомпонует момент многоговорящего затишья.
Посредственный иллюстратор Ян Стыка "размалевал" арену римского цирка, где хищные звери поедом едят христианских мучеников — кому ногу оторвали, кому руку, кому голову, кого сообща потрошат и терзают. И в результате — что-то жалкое, лубочное, и краем крыльев не задевающее ваших нервов.