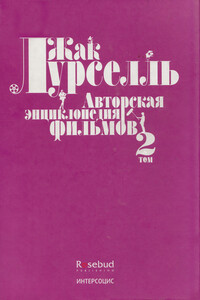Демонический экран | страница 112
Впрочем, отдельные эпизоды "Варьете" свидетельствуют о том, что Дюпон, по сравнению с его же картиной "Старый закон", усовершенствовал технику монтажа, и некоторые сцены, несмотря на символизм, стали более сдержанными не только из-за различий в сценарии. Например, та сцена, где соблазнитель, ожидая прихода молодой женщины, открывает окно, чтобы потом, после того как он ее затащит в комнату, под предлогом сквозняка закрыть дверь. Он опускает жалюзи, а когда женщина уходит, снова поднимает их — и здесь молчание и эллипсис невероятно красноречивы.
Однако обычно Дюпон не в силах противостоять искушению символического визуального воздействия: когда в вагончик заходит роковая красавица, создается впечатление, что это сама судьба заходит к артистам. Дюпон сначала показывает лишь лоб и большие глаза Лиа де Путти; потом, подобно восходящему солнцу, появляется ее лицо целиком. Банальная сцена ярмарочной жизни превращается в патетически обставленную метафору.
Возможно, этот громоздкий символизм, к которому склонен Дюпон, стал одной из причин того, что в эпоху звукового кино он уже не мог снимать фильмы уровня "Старого закона" или "Варьете". И хотя он первым понял, какое значение для изображения может иметь звуковой фон и весьма умело использовал его в своей "Атлантике", тем не менее, в диалогах обнаруживается характерная для него обстоятельность, если он не полагается полностью на визуальное воздействие, а прибегает к помощи символов. Уже немой фильм "Мулен-Руж" (1928) лишен той визуальной магии, которая исходит от "Варьете". Дюпон привносит в свои произведения слишком много деталей, и действие распадается на отдельные режиссерские идеи, не складывающиеся в единое целое. И "Сальто Мортале" (1931) кажется всего лишь жалким повторением всех тех элементов, которые вдохнули жизнь в "Варьете": оптическая виртуозность Дюпона здесь работает вхолостую.
Так что неизвестно, стоит ли сожалеть о том, что Дюпон, который в настоящее время владеет ресторанчиком в Голливуде, больше не снимает новых фильмов.
XVIII. Апофеоз светотени
"Фауст" (1926) Фридриха Вильгельма Мурнау
Легко понятная робость охватила меня, когда я подумал, что избрал для моего балета сюжет, уже обработанный нашим великим Гёте, и при том в его величайшем произведении. Но если достаточно опасно, пользуясь даже одинаковыми изобразительными средствами, соперничать с таким поэтом, то насколько рискованнее и опаснее подобный замысел, когда собираешься выступить на арену с неравным оружием! В самом деле, для выражения своих мыслей Вольфганг Гёте имел в своем распоряжении весь арсенал словесного искусства…Я пишу всего только тощее либретто, где могу лишь совсем кратко наметить, как должны действовать и двигаться на сцене танцоры и танцовщицы…