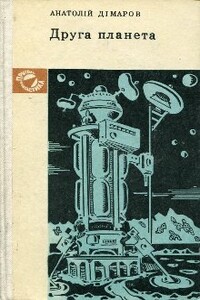И будут люди | страница 69
Потому и не слышал он, что говорил ему сын, потому и раздражали его дотошные расспросы старика, давно уже впавшего в детство, и Оксен в конце концов решил, что отец просто устал с дороги и ему надо отдохнуть.
Это была беспокойная, безрадостная ночь.
Дед ворочался на печи, все никак не мог успокоиться из-за того, что Свирид не привез домой сибирской пшеницы, все сердился на несообразительность сына.
Невестка думала, что у свекра тяжелый характер и ей нелегко будет ему угождать. Все молчит, сопит, порой буркнет слово-другое, сверкнет глазами, как волк, — так и пойдет мороз по коже! Настоящий каторжник, только что нет на лбу клейма.
Олеся тихонько плакала, теперь уже звала мысленно мать, а не отца, который так обманул ее надежды.
Свирида одолевали воспоминания, стояли в голове, толпились, заглядывали в глаза — хмурые, нерадостные, а часто и страшные. То он видел труп Олены и как у нее подвернулась рука, когда она упала бездыханная. И как он не выдержал — освободил эту руку, хотя знал, что Олене уже все равно, что ей уже не больно. Но было больно ему, и сейчас снова начинает болеть, словно эта боль дремала в нем все эти восемь лет, а теперь опять проснулась, зашевелилась, поползла по нему гадюкою, качая ядовитой головкой, показывая раздвоенный язычок, — выбирала, куда больнее ужалить.
То к нему приходил Василь, тыкал прямо в глаза укороченные руки, издевательски смеялся: «Ты мне прищемил пальцы, а я твою душу прищемил, потому что ты до самой смерти не узнаешь, чья Олеся дочка!» — «Скажи чья, не мучай меня, не устраивай пытки!» — «Не скажу, — отвечает Василь, — не проси — не скажу, потому что Оленка взяла с меня страшную клятву молчать до могилы». И скрежещет зубами сонный Свирид, стонет и тяжело дышит, а Оксен прислушивается к этим стонам — их слышно даже через дверь, — и ему становится страшно и жалко старика, он ведь догадывается о том, что терзает отца.
Оксен и сам еще недавно только терпел Олесю: не мог простить ей синих, словно подснежники, глаз, подаренных ей матерью. Как встретится с ней взглядом, так и грызанет за сердце старая, невысказанная обида: у него было такое чувство, будто мачеха и ему тоже изменила.
Но однажды поехал Оксен под Новый год в лес — хотел услужить батюшке, привезти ему елку.
Долго ходил между деревьев, увязал в глубоком снегу, пока не выбрался на широкую поляну, окруженную островерхими соснами. Посреди поляны на тоненькой ножке стояла замерзшая елочка — протягивала навстречу ему на зеленых ладошках белые коржики снега, словно просила: «Дядя, купите! Дядя, купите!..» — как это делают детишки городской бедноты в дни ярмарки в Хороливке. Оксен подошел, осмотрел елочку: «Хороша будет», — ударил обухом по тоненькому стволу. То ли дерево, то ли железо ойкнуло, елочка затрепетала, роняя шапку снега, и Оксену вдруг показалось, что деревце пытается убежать от него к тем вон высоким соснам, убежать, схватиться руками за ствол одной из них, зарыться остреньким личиком в кору. Хочет убежать, но не в силах сдвинуться с места: очень уж крепко вмерзла в землю единственная ножка. И безвольно опустились Оксеновы руки, уже поднявшиеся, чтобы рубануть, топор ткнулся острым, хищно расплющенным клювом в мягкий, податливый снег, а не в тоненькое деревце. Оксен и сам не знал, что с ним случилось, только его словно заворожили, а то, может, дед-лесовик, подкравшись сзади, дохнул ему в душу жарким укором: «Смотри, человече, какую красу хочешь убить!» И показалось вдруг Оксену, что меж зеленых густых колючек жалобно светятся-смотрят глазенки, молят его о милосердии.