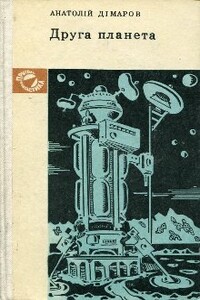И будут люди | страница 107
В данном случае юноша приобрел самые конкретные черты. Он просто-напросто не мог уже быть кем-то другим. Никогда и никем, только Олегом.
И вот свадебные колокола звучат над нею, — почему же они отлиты из самой темной меди? Куда девались серебро и золото, которые своим ясным, веселым, солнечным блеском должны были скрасить этот похоронный звон? Может быть, неизвестный мастер в минуту отчаяния добавил в эти колокола металл, из которого куют кандалы и цепи?
Вот рядом с ней идет ее муж, — почему же он более чужой для нее, чем самый чужой из чужих? Какой злой колдун заменил им Олега, отдал ее в руки человека, годящегося ей разве что в отцы?
И Таня уже рада, что нет гранитной паперти с красными ступеньками, нет высокой белой церкви, потому что ее испуганное сердце будто обернули черным платком монастырской сестры-черницы.
Сразу же из церкви они пошли навестить могилу отца.
Благословив дочку на горький этот венец, отец вскоре умер: словно боялся, что не выдержит, пожалеет ее, и потому поспешил спрятаться от Тани в могилу. Схоронили его не возле церкви, где лежали все священники, а там, где хоронили прихожан, — такова была последняя воля отца. «Положите меня возле наших людей, там мне будет веселее лежать». И вот он лежит рядом с ними — Василями, Миколами, Оникиями, рядом с теми, кого он утешал в несчастье и горе, кому обещал царство небесное после смерти, — что же он скажет теперь Татьяне, которая, как послушное, покорное дитя, не осмелилась нарушить слово, данное отцу?
Молчит могила, неподвижная и немая, молчит белый крест, символ страдания и горя, — и Тане уже кажется, что отец и отсюда куда-то перебрался, спрятался от нее. Закрывает почерневшими ладонями глаза, не хочет видеть дочкиного печального лица. Забивает закаменевшей глиной уши, не хочет слышать Таниного прерывающегося голоса. Обещает ей счастье лишь в царстве небесном, а не здесь, на земле.
Так и не поговорив с отцом, Таня послушно дает отвести себя домой, а потом собрать в дорогу — в другой, чужой и неизвестный ей дом, который отныне, и присно, и на веки вечные должен стать ее домом. Там она будет жить, родит этому чужому человеку детей, там и состарится, а потом умрет, там ее положат на вечное успокоение — там, а не здесь, не возле отца и матери, потому что она теперь отрезанный ломоть, который, как ни прилаживай, ни за что не пристроишь на старое место.
Оксен забирал свою молодую жену поздней осенью, уже после того, как сжали и обмолотили хлеб. На голых полях печально желтела стерня, только кое-где торчали копны и полукопенки, поднимались на цыпочки, выглядывая своих заленившихся хозяев. Вылинявшие под щедрым летним солнцем цветы медленно увядали, вспаханные нивы просили дождя, а дождя все не было, и уже небесная голубая пашня покрылась бледной, пересохшей пылью.