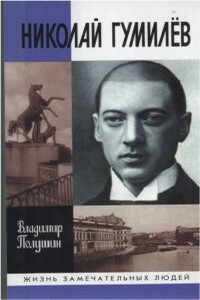Homo ludens | страница 58
Я разделяю эту точку зрения. Действительно, в некоторых работах (Ю. Карабчиевский, Ю. Халфин, М. Вайскопф) трагизм судьбы Маяковского низводится до истории вовсе не крупной, жалкой, в общем ничтожной личности, неизвестно какими чарами притягивавшей к себе Блока и Андрея Белого, Хлебникова и Малевича, Мейерхольда и Эйзенштейна, Шагала и Пикассо, Стравинского и Прокофьева, Шкловского и Якобсона, Пастернака и Цветаеву и многих других в России и за рубежом.
Сам я слегка политизирован (о чем сожалею). З. С. о политике говорить брезговал. Однако его отдельные суждения и фразы, такие как «Россия – страна не для людей», «Жаловаться бессмысленно, а главное – некому», вполне характеризуют состояние, с которым он жил.
В России человеку жить трудно. На всех этапах, от рождения до смерти, ему приходится чего-то опасаться и от чего-то спасаться. Паперного спасали чувство юмора, тяга к творчеству да сами писатели, из коих Чехов безусловно стоит особняком. Когда Паперного костили за пародию «Чего же он кочет?», его выручал именно Антон Павлович, о чем сам З. С. написал: «Чехов – автор записных книжек, художник, словно врач, оказывал неотложную помощь». По этой причине, я думаю, текстологическое исследование «Записные книжки Чехова» (с обложкой работы Владимира Паперного) и стало одним из лучших во всей Чеховиане.
Чтобы понять Паперного, надо читать его труды о Чехове. Пишущие о Чехове вынуждены преодолевать расхожие представления о нем: интеллигент, невозмутимый, сдержанный, выдавливал из себя по капле раба, ненавидел насилие, не терпел патетики, дорожил личной свободой и т. д. Верные сами по себе, эти суждения уже никого не трогают и даже раздражают. Нужно им вернуть изначальный смысл. Паперный именно это и делает. В последней и, быть может, главной своей книге «“Тайна сия…” Любовь у Чехова» (2002) сквозь призму любви он увидел чеховскую натуру в ее самых непосредственных проявлениях и этим обновил наши знания о писателе. В холодности и равнодушии Чехова упрекали не раз, и автор как будто солидаризируется с этим, когда воспроизводит историю «недоромана» Чехова и Лидии Мизиновой. Любящая женщина пишет о равнодушии Антона Павловича: «Вы всегда были равнодушны к людям и к их недостаткам и слабостям!» Или: «Я хочу видеть только Вас – потому что Вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие!» Сочувствуя Лике, З. С. соглашается с ней, полагая, что она выстрадала право сказать так. А если прибавить к этому собственные суждения Чехова («Душа моя ленива и не выносит резких повышений и понижений температуры»; «Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска…»), то невольно спрашиваешь себя – а так ли уж была далека от истины Лика Мизинова? Свободный от апологетики по отношению к писателю, Паперный методично разрушает сложившийся стереотип: «На деле же он был невозмутимо спокоен – в отношении к самому себе». Не был собой доволен. Не любил писать о себе. «Ровно и вяло» – это не равнодушие. Тут что-то другое. Что? Нарастающее чувство скоротечности жизни. «Когда говорят о Чехове, – замечает Паперный, – добром, чутком, деликатном, поэтичном, порой забывают этот точный и неумолимый отсчет чеховского времени, строгое ощущение близящегося конца».