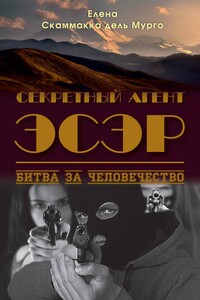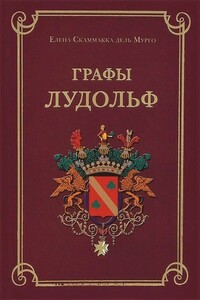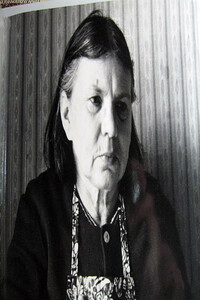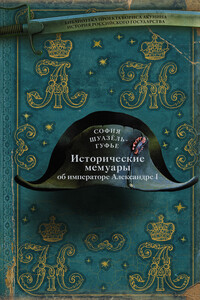Татьяна Лопухина. Итальянские воспоминания русской аристократки | страница 52
Сразу же хочу пояснить некоторые географические названия и имена основных фигурантов моих воспоминаний, членов моей семьи. Наш майорат являлся феодальным поместьем, находящимся на границе Польши и Германии, подаренным моему деду с материнской стороны, генералу Николаю Краснокутскому, императором Александром Вторым за военные и гражданские заслуги перед Родиной. Об этом оповещала почетная доска, установленная перед центральным входом майората.
Поскольку у моего деда не было наследников по мужской линии, то он осмелился испросить Высочайшего разрешения у императора Александра Третьего передать по наследству эту земельную собственность своей дочери, то есть моей маме, Татьяне Николаевне Краснокутской. Что и произошло.
Когда в 1890 г. мои родители поженились, мой отец владел поместьем Златополь вместе со своим братом Николаем. Моя мама не любила это лопухинское поместье, и как только не стало дедушки Краснокутского, то родители сразу же переселились в Польшу. Отец продал свою долю Златополя своему брату и эти деньги вложил в майорат, который стал единственным нашим постоянным местом жительства вплоть до 1914 г.
Майорат состоял из 3000 гектаров земли, из которых половина была покрыта лесом, а другие части находились в отдалении друг от друга.
Мой дед был человеком щепетильным и отказался присваивать себе многие экспроприированные после 1863 г. земли у Католической церкви и у польского государства. Сельскохозяйственная ферма в 30 км от Хруштина, которую моя мама в шутку называла „моя загородная вилла“, являлась старинным владением польских монахов из Ченстохова. Там шли многочисленные битвы между поляками и шведами во время войн XVII в. Памятью об этом служил встроенный обелиск в одной из стен дома.
Земли в селе Хрушчине на границе с Пруссией состояли из 100 гектаров лесов, простиравшихся с запада на север. В глубине поместья протекала речка Просна, приток Одера, разделявшая три страны: Россию, Польшу и Верхнюю Силезию.
Наш дом находился в очень изолированном месте. Село Хрушчин со своей католической церковью, школой и главной фермой находилось в двух километрах езды через лес, и поскольку телефон провели только в 1913 г., то вся связь до тех пор с внешним миром происходила через Германию. А если быть совсем точной, то через станцию железной дороги Pitscha, расположенную в пяти километрах от границы. Оттуда можно было за 12 часов доехать до Варшавы, Берлина и Вены и за 24 часа до Санкт-Петербурга, Парижа и Флоренции.