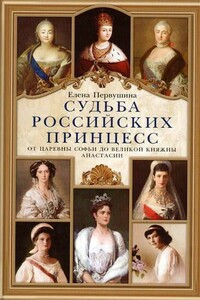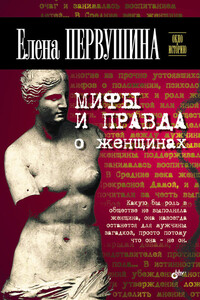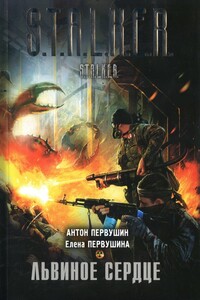Любовь в Золотом веке. Удивительные истории любви русских поэтов. Радости и переживания, испытания и трагедии… | страница 43
О том же свидетельствуют сохранившиеся его письма и донесения. Например, в письме к генерал-майору П.С. Потемкину от 22 июня 1775 года, вспоминая те же события, он пишет не без гордости, что «…при всяком случае все силы употреблял как к преодолению неприятеля, так в разсуждении ретраншамента и всех онаго укреплений, а наиболее воинской предосторожности в попечении и наблюдении нужного распорядка, так что не было никакого и малейшего предначертания ниже действий, в которых бы я совершенного участия не имел, ибо если я не больше, что из пристойности неприлично выговорить, то, по последней мере, не меньше самого коменданта во всех подробностях распростирался. О чем, уповаю, каждый из бывших в помянутой блокаде может по справедливости засвидетельствовать».
Более того, Крылов-старший был способен критически относиться к своим запискам, он отмечал, что стремился избегнуть длиннот и подробностей в повествовании, дабы «долгим чтением не наскучить», но не смог этого сделать, так как «материя (т. е. содержание рассказа — Е. П.) в сие пространство меня невольно завела». Он признавался, что для этого его перо недостаточно искусно и не без иронии сравнивал себя с известным журналистом и бульварным писателем Ф.А. Эминым, который видел одно из главных достоинств литературного произведения в краткости изложения, «но в самой вещи пространнее самого его никто еще не писал». Крылов завершил свое послание следующими словами: «…сделано сие мною не ради изъявления в повествованиях моей храбрости, но единственно в доказательство моего усердия и послушания, с которым в искреннем высокопочитании я имею честь быть и пр.». Разумеется, он, прежде всего, профессиональным военным, но при этом знал цену слову и, когда брался за перо, стремился сделать работу так же честно и хорошо, как нес свою службу, а это не так уж мало.
Андрей Прохорович принимал участие в суде над Пугачевым, позже ушел в отставку «по слабости здоровья», так и не получив никаких наград. В письме, опубликованном в «Отечественных записках», отмечает, что о некоторых событиях он вообще «порядочно и описать» не мог, так как не был их очевидцем «по причине болезни», вероятно, эта болезнь и спустя два года дала о себе знать.
Семья переехала в Тверскую губернию, где Крылов-старший поступает на службу сначала в палату уголовного суда Тверского наместничества, затем становится председателем Тверского губернского магистрата. Туда же он пристроил переписчиком бумаг 8-летнего сына, которого, вероятнее всего, сам же и научил грамоте. В Твери родился и младший сын в семье — Лев, которому так и не суждено было узнать отца.