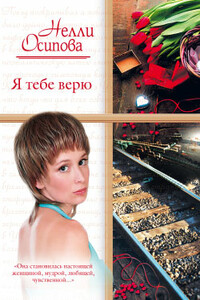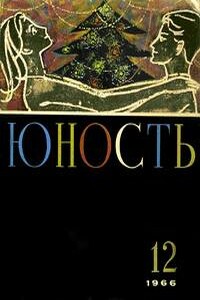Фантомные боли памяти (Тифлис-Тбилиси) | страница 5
У меня нет ответа.
— Когда нет ответа, — внушал наш учитель математики, — начни сначала.
Я начинаю сначала. Я обращаюсь к своей памяти.
Моя память… Она всегда была частью моего существа, моего характера, моей воли. Так было прежде, пока не возникла мысль написать эти воспоминания. Теперь, совершенно неожиданно для меня, она стала приобретать самостоятельность, вышла из повиновения и сама стала решать, что оставить при себе, а что отвергнуть. Она цепко ухватилась за меня и ведёт за собой. Постой, говорю я ей, когда-нибудь я напишу об этом, но не теперь, ещё не пришло время воспоминаний! Но она держит меня за руку и тянет, тянет… Я иду за ней. Я не хочу больше сопротивляться. Мне даже нравится, что она сильней меня.
Поэтому не стану ничего уточнять — пусть вспоминается, как вспоминается…
В детстве мне, как и всем детям, рассказывали сказки. Но я была особо везучей, поскольку рассказчиков у меня было много: обе бабушки, оба деда и, конечно, мама с папой. Одна бабушка говорила по-грузински и сказки её были грузинские, другая по-армянски рассказывала армянские сказки, мама и папа — по-русски, а деды — на смеси всех известных им языков, вставляя ещё арабские и персидские слова и выражения.
Многоязыкой была не только наша семья, но и двор, улица, радио, театры.
Всё это было возможно в совершенно сказочном городе, каких я никогда за всю свою жизнь больше не видела, — в довоенном Тифлисе. Если здесь и есть преувеличение, то оно объяснимо: мы, тбилисцы, хронически больны своим городом.
Самые колоритные фигуры — оба моих деда. Они утверждали, что сказки помнят со слов своих бабушек, но, странное дело, порой один и тот же сюжет приобретал у каждого из них свой оттенок. Один дед строил дома (они и по сию пору стоят укором бетонным коробкам), и в его сказках превалировала строительная тема: воздвигались дивной красоты дворцы и крепости, дома были нерушимыми и всегда оберегали своих жителей от всяческих напастей.
Другой дед лечил людей, и в его сказках чаще всего происходило то, что сейчас мы называем реанимацией: мёртвые оживали, калеки исцелялись, больные выздоравливали.
Совсем по-другому складывались события в маминых сказках. Всё зависело от настроения и времени, которым располагала мама. Если она убегала в институт, то сказка становилась «многосерийной», с продолжением вечером или завтра. Если настроение не самое лучшее — сказка спрессовывалась почти до состояния дайджеста, как сказали бы мы сегодня. Одно было неизменно в маминых сказках: зло всегда порождало зло и только зло. Так, злая царевна превращалась в чудовище, чудовище погибало от руки смелого воина, но капля крови чудовища превращалась в злую, ядовитую змею. А когда и змея была побеждена, дерево, на листья которого капнула кровь чудовища, становилось ядовитым. Только самоотверженность и смелость человека могли положить этому конец: зло само по себе не исчезало.