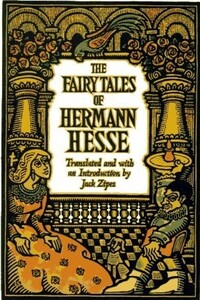Избранное | страница 52
Он взял меня за руку и повел к себе в комнату. На сосновом столе лежали книги и хирургический скальпель, покрытый запекшейся кровью, стояли два стакана чая, от которых подымался теплый, ароматный пар.
Я опустился на стул; чувство страха не покидало меня. Сосед уселся напротив меня. Мы выкурили по одной папироске. Он взял стакан чаю, сделал несколько глотков и заговорил; видно было, что ему многое хочется сказать, но трудно собраться с мыслями.
— Да! — произнес он, вздохнув. — Человек со дня своего рождения несет в себе зачатки своей судьбы. Если ребенок остается равнодушным к шуму, к брани, к побоям, думает только о еде и не ощущает жалости к нищим, если, будучи сам сыт по горло, он готов через силу съесть даже последний кусок, лишь бы не поделиться с другим, если он мучает кошек и собак, если собирает вещь за вещью, игрушку за игрушкой — то можно почти с уверенностью сказать, что у этого ребенка будет безмятежная жизнь. Если обстоятельства не столкнут его с предназначенного ему судьбой жизненного пути, он, разумеется, ставши взрослым, превратится в бесчестного, безжалостного эгоиста. Для полноты счастья ему немного надобно: лишь чуточку сообразительности, чтобы уметь красиво причесаться, тщательно стряхнуть пыль с одежды, до блеска начистить ботинки и всегда, всюду лгать.
Заглянув на двадцать лет вперед и судя даже по самым незначительным признакам, можно почти с уверенностью сказать, какой ребенок будет преуспевать и будет счастлив, а какой умрет таким, каким и родился: бедным и несчастным. Если в возрасте пяти-шести лет взгляд его туп и холоден, равнодушен и колюч, то нет никакого сомнения, что тупость чувств у него непосредственно связана с тупостью ума, а этих двух недостатков вполне довольно, чтобы сделать его счастливым на всю жизнь. Если же, наоборот, взгляд ребенка все время меняется, если он нервно щурится или широко раскрывает глаза, если гнев, как и радость, вспыхивают в нем мгновенно, то безошибочно можно сказать, что пылкость, сверкающая в его взгляде, порождена глубокими переживаниями, огнем пылающего разума, и этого достаточно, чтоб он терзался всю жизнь, особенно в нашем обществе, хитром и ничтожном, внешне блестящем, но в сущности варварски невежественном. Вот я, человек ничего не достигший в жизни и никому не известный, могу сказать — не подумайте только, что я хвалю себя, — что случайно я родился ребенком резвым, горячим, добрым; мне были свойственны крайности; я мог заплакать и тут же рассмеяться; я был чувствителен, болезненно чувствителен: злое слово для меня было равносильно пощечине; я обладал одним недостатком: я был беден. И этого было довольно…