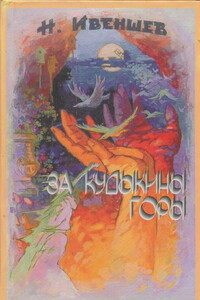День рождения кошки | страница 12
Она поколебалась.
— Ненавижу, — созналась бессильно и зажмурилась.
— Ну вот видишь, — с облегчением усмехнулся.
Ее ответ не оставил ему ничего, кроме злодейства.
Впрочем, пусть, теперь пусть, ведь она уже согласилась.
— Ну, так ты обещаешь, что отвезешь меня в аэропорт?
— Сдай билет… Останься!
(Это он о любви, какой ужас…)
— Это невозможно.
— Тогда приезжай еще!
— Не знаю… — малодушно соврала, как бы оставляя ему надежду этой самой любви; ха-ха, боже мой, если в этом положении можно еще смеяться, она горько смеялась. — Ну, так ты отвезешь меня в аэропорт?
Он уступил:
— Отвезу, — с вернувшейся опять меланхолической тупостью.
— Пусти, я разденусь, — решительно оттолкнула его.
Он подчинился.
Приходилось спешить. Время еще было, но все же лучше поспешить.
— А свитер? — сказал он.
— Свитер не надо, — бросила твердо.
Снимать свитер — это уже какая-то лирика, нечто из области любви, из той области, где тело, томясь, ищет полного соприкосновения и ласки всею кожей.
Он не настаивал. (Он стал вдруг робкий и послушный.) Но потом все же руки сами запросили человеческой ласки и простерлись под свитер, хотя это совсем не было необходимо: природа уже сдалась, уступила, плюнула, махнула рукой и дала этому человеку совершить то, что он хотел. Он простирал нежные руки ради чего-то людского в себе — щадя остаток сердца — и искал губ. И Женя не отворачивалась — господи, боже правый, прости ей, был тут расчет: чем ласковее, тем скорее… И она даже, усмехнувшись, грудным бархатом произнесла — сокровенным, не известным никому, кроме одного человека на свете, голосом:
— Первый раз меня насилуют.
И он прошептал в ответ — с мольбой:
— Я не насилую. Я с тобой прощаюсь…
Потом они вышли из автобуса — к речке, по очереди, молча. Молча же вернулись, каждый на свое место, взгляды ниц. Астап завел мотор — и понеслись.
В некий момент автобус снова стал Мустангом.
Выехали на шоссе, быстро достигли города и мчались по улицам — на красный свет, сигналя, как пожарная машина; Астап делал это с суровым правом человека, спасающего другого, и каждый миг сейчас он ощущал пристально и навек. Иногда он мельком оглядывался на нее с братской тревогой. В ее глаза то и дело возвращались слезы. Но это они сами, без ее участия: у нее на участие не осталось души.
Астап не понимал ее состояния, да и некогда было ему вникать: он гнал Мустанга в аэропорт срочно, беспрепятственно и красиво, — ему казалось, она должна была залюбоваться им.
«Сейчас милиция остановит, — равнодушно думала Женя, — и я не улечу — и, выходит, зря я…»