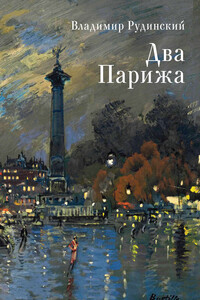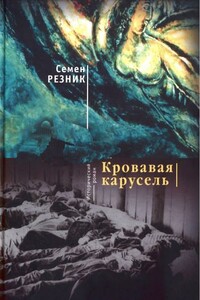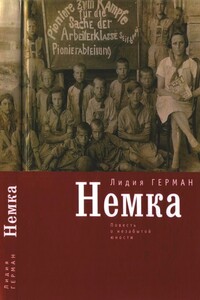Дуновение из-за кулис. Записки драматурга | страница 83
Саша Бурдонский репетировал «Сад» при закрытых дверях, вход в зал был решительно запрещен не только руководству театра, но и автору. Казалось, там, за массивными створками, за тяжелыми шторами составляется заговор, и то, что это происходит в здании, построенном в форме звезды, и то, что в нем полно офицеров, только усиливало интригу. До этого мы с ним много говорили о пьесе, однажды летом даже двое суток просидели над текстом на его даче в номенклатурном, тщательно охраняемом поселке Жуковка. В перерывах прогуливались мимо знаменитых особняков, внушавших трепет от их переполненности государственными тайнами, (одна пустующая дача Ростроповича, где когда-то скрывался Солженицын, чего стоила, – ни хозяина, ни постояльца уже не было в стране.) Саша был любимым учеником Марии Осиповны Кнебель, выпуская его из ГИТИСа, она сокрушенно говорила коллегам: «Бедный Саша, как ему будет трудно, он ведь внук Сталина». Привязанность их друг к другу была живой, постоянной и, получив в руки «Сад», он понес его к Марии Осиповне и получил от нее благословение. (Она была уже очень стара, но все же позволила привезти себя на премьеру, где Саша и представил меня ей. Приехала она и еще раз – через месяц, хвалила актеров, говорила, что очень выросли.) Его увлеченность пьесой подкупала меня и обнадеживала. Мы говорили о пьесе, но избегали прямых политических разговоров, которые в общении по тому же самому поводу с Хейфецом возникали естественно. Здесь же это странным образом могло обернуться вторжением в личную жизнь, а задевать родственные чувства мне не хотелось. (Как-то, правда, он обмолвился, что самым главным его детским переживанием был страх.) Мне казалось, что мы с ним и говорим и молчим об одном и том же.
И все же я настораживался, когда речь у нас заходила о ностальгии по «коллективному саду», особенно после того, как он подарил мне эскиз афиши спектакля, выполненный кем-то из его родственниц, по-моему, племянницей. Там на заброшенном пустыре, похожем на полигон, рядом с засохшим обломанным деревом стояла одичавшая собака и смотрела вслед уходящему поезду. Я боялся, что в его спектакле будет крен в эту сторону, и тут же напоминал ему, что обе стороны – и романтики и прагматики – правы и вынуждены жить в этом трагическом и неразрешимом противоречии, чему, собственно, и посвящена пьеса. Теперь, в ходе репетиций, мне было очень важно услышать, как эту самую важную особенность пьесы режиссер растолковывает актерам. Но он меня им не представил и от личных контактов всячески оберегал. Даже перед генеральным прогоном, давая какие-то последние указания, он попросил меня подождать в фойе, где я в полном одиночестве просидел полчаса на диване. Так что с Сашей мы общались лишь наедине, у него дома, где он жил с мамой, и о ходе работы я мог судить лишь по его темпераментным рассказам. Накал их был таков, что, казалось, режиссер вышел на самое главное в своей жизни дело. Я слушал и искал в его лице сходства с дедом. И находил.