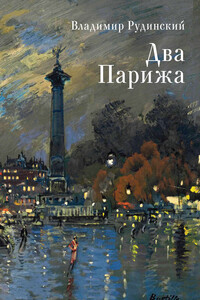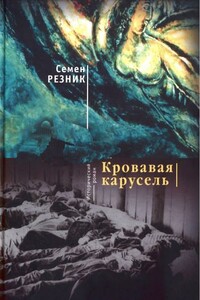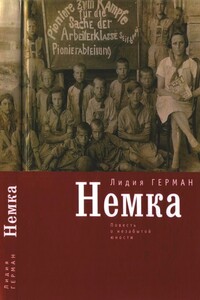Дуновение из-за кулис. Записки драматурга | страница 79
Удел великой нации, сплотившей сто двадцать языков – самоограничение и даже жертвенность, это печальная аксиома. Тяготишься, беспокоишься за выживание собственного языка и культуры, считаешь своих соседей нахлебниками – не держи, отпускай. Но – тяготились и не отпускали. Это трагическое противоречие использовали тогда те, кто рвался к власти в России, да и в смежных краях. Никакой национализм не принес бы столько несчастий нашим народам, сколько принесли властные амбиции отдельных людей. В России флагманами, знаменосцами и соловьями российского суверенитета были функционеры коммунистической партии и союза писателей.
А тогда, в августе 1981-го, в Пицунде звучала разноязыкая речь. Особенно шумно было на площадке у входа в дом после завтрака, дольше всех на ней задерживались грузины. Дождавшись, пока все разойдутся, и, отправив жену на пляж, я принимался за пьесу «Вино урожая тридцатого года». Думаю, что в эти часы в огромном, пока еще прохладном доме я оставался один. Работа шла легко, приносила радость. И лишь перед обедом, изнуренный не столько работой, сколько жарой, я отправлялся на пляж. Уже много месяцев меня не покидало ощущение полноты жизни, нескончаемого творческого влечения, возникшее в Москве. Моя рабочая тетрадь полнилась. Темы для пьес, типы, коллизии, сцены возникали одна за другой – не было ничего вокруг, что не несло бы в себе драматизма, сшибки страстей. Жизнь, думал я, если присмотреться к ней повнимательней, протекает в многообразии драматургических жанров: от трагедии до фарса и мелодрамы. Всё зависит от способа подачи, от интерпретации, от взгляда. Казалось, мне под силу превратить в пьесу все, даже телефонную книгу. Лучше всех в те дни меня понимали возникшие новые друзья – Сережа Коковкин и Аня Родионова.
Аполлон. Пьеса об Аполлоне Григорьеве. Его историю по-своему, на помеси цыганского с русским рассказывает цыганский хор – знакомит, объясняет, комментирует, участвует, поет и пляшет.
Две женщины в его жизни, а он в долговой яме под охраной городового. Яма «настоящая», посреди приволжского бульвара (сценически люк) – одна голова торчит. И оттуда стихи. Одной женщине – «Прекрасная Венеция», «К мадонне Мурильо». Другой – «Вверх по Волге». Путает – кому что. Хор подсказывает.
Горожане прогуливаются, собутыльники наливают ему стопку, он – прочь! Он не пьет. Городовой выпивает за него. На подпись ему в долговую яму приносят листы журнала.