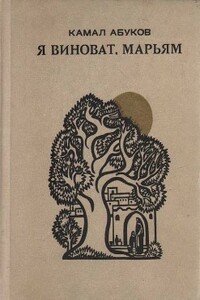Звездопад. В плену у пленников. Жила-была женщина | страница 28
Мы с Гогоной выработали четыре трудодня. Не подведи погода, мы и сегодня поехали бы на чайную плантацию. Привязали бы коров к арбе и, оставив их пастись, сами пошли б работать.
Когда солнце поднялось бы на высоту двух мотыжных черенков, появился бы Эзика, волоча, как деревянную, покалеченную ногу. Увидев, сколько мы наработали и удивленно покачав головой, он крикнул бы, кивая на пасущихся коров.
— Чай потопчут, утробы ненасытные!
— Не беспокойтесь, дяденька, не потопчут.
Потом он пошел бы от нас прочь, пытаясь шагнуть через кусты, занес бы искалеченную ногу, но пошатнулся б и упал за кусты. Смачно выругав неизвестно кого, он с трудом поднялся бы и пошел дальше, в обход чайных кустов.
После такого обхода он появлялся в поле только к вечеру. Ковыляя с двухметровой палкой в руках, он замерял ею обработанную площадь и подзывал меня.
— Помножь-ка эту чертовщину. Что-то никак не разберусь…
Я множил длину на ширину, и Эзика заносил итог в книжку против моей фамилии. Гогоне он записывал полтрудодня. Перед уходом он опять наказывал нам:
— Смотрите, как бы коровы не попортили кусты!
— Да нет, — отвечали мы.
И, ругаясь себе под нос, он уходил.
Мы не знали, бригадир Эзика или нет, да и сам он не знал. Как он мог бригадирствовать, обходить на своей хромой ноге все село по утрам? Но обработанные участки он замерял и, хотя в расчетах был не силен, никто на него не обижался: надо же было кому-то этим заниматься.
Дождь стал стихать. Я сумел обтесать четыре шкворня. Два из них вставил в ярмо, привязал новые веревки.
Вымокший под дождем Заза пришлепал домой и протянул маме зажатые в кулачок мокрые деньги.
— Хлеба в лавке нет! — объявил он.
— А будет сегодня? — спросила мать.
— Нет, — мотнул головой Заза и хотел что-то добавить, но мама уже отошла от него, выжимая на ходу мокрую простыню.
Заза подошел ко мне, посмотрел, как я работаю, потом перешел к бабушке, уставился на нее грустными глазами и нерешительно сказал:
— Есть хочется, бабушка!
— Поешь, сынок, если хочется, — проговорила бабушка, не взглянув на него.
— Хлеба хочу!
— Поешь хлеба!
— Да нет хлеба.
Он скрылся в чулане и вынес оттуда кусок кукурузной лепешки. Выйдя на веранду, он сел на каменный выступ и принялся грызть сухую лепешку.
— Гогита! — позвал меня кто-то с улицы.
У калитки стоял Фома-письмоносец.
— Письмо! — вскрикнул я и сорвался с места.
Промокший до нитки, в грязных по колено сапогах, Фома пошарил рукой в почтовой сумке, поднял на меня веселый взгляд своих косых глаз, прищелкнул языком и протянул сложенное белым треугольником письмо.