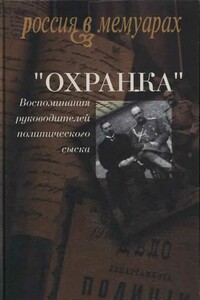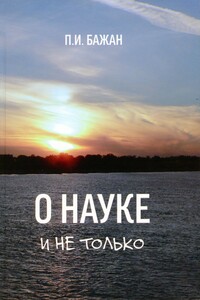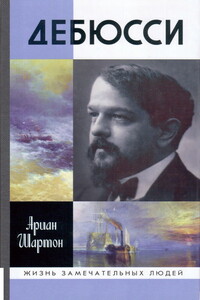«Печаль моя светла…» | страница 51
После его возвращения с фронта сначала по своему возрасту я не замечала больших изменений в отцовском поведении, только то, что он стал реже шутить и всегда отказывался говорить о войне, даже по просьбам Коли. Он сразу же переходил на смешные эпизоды своего детства: как они с Венькой (двоюродным братом) пугали ночью соседей в роли призраков с горящими глазами, держа на палке прорезанную тыкву со свечкой внутри и закрывшись простынями; как с Венькой же бежали в Америку, стащив у деда ведро меда, и т. д. В общем, отвлекал нас. Знаю, что из своих наград (орден Красной Звезды и три медали, за которые отец первое время получал даже какие-то деньги) он больше всего ценил медаль «За боевые заслуги», выданную за то, что его умение хорошо плавать сослужило ему хорошую службу – он первым форсировал широкий Одер с тяжеленной катушкой и установил для командования связь. Вообще тогда он нам доступно объяснил, как зачастую случайно и не совсем справедливо награждают на войне. Во всяком случае, в их полуштрафном батальоне не награждали и не повышали в званиях тогда, когда действительно следовало бы. От наших с Колей расспросов он сразу становился серьезным и всегда повторял: «Война – это грязно и неинтересно, совсем не для детей». О двух причинах своей счастливой участи – остаться живым в этой невероятно жестокой бойне – бабушке и маме говорил очень четко: во-первых, это разум и плечо «Шурки»; во-вторых, никогда и никому не делал того, чего не хотел бы себе, включая противника, всегда помня Коннона. На фронте у него нарастало убеждение, что любое моральное преступление обязательно возвращается бумерангом. Не знаю, рассказывал ли он что-то маме в наше отсутствие. Думаю, да, хотя и далеко не все. Ведь однажды случайно я услышала слова тети Мары, адресованные заплаканной маме: «Ничего, Тусенька, поверь: он еще отойдет!»
И действительно, как только он начал работать в своем пединституте, готовиться к лекциям, охотиться за книжками, помогать главному библиотекарю делать в их полуразваленной библиотеке какой-то важный переучет, то явно повеселел и снова замурлыкал песни по утрам во время бритья. При этом мама смеялась, удивляясь, как это ему удается петь все песни на один мотив.
Из его редких тогдашних разговоров, связанных с войной, мне запомнился тот, который он случайно завел со мной, когда я ему «помогала» развешивать под липой на толстом железном проводе очень тяжелый персидский ковер Янкелевичей – папиных коллег, уехавших в эвакуацию и оставивших нам на хранение свои дорогие вещи. С двумя их тяжелющими коврами (тогда ведь еще слыхом не слыхали про пылесосы) очень мучились мама с тетей Галей: сначала эти предметы искусства висели в нашей комнате, бывшем зале, как просили Янкелевичи, потом их прятали в подвале от заинтересованности немцев, но один из ковров из-за сырости пошел пузырями. Пришлось их незаметно выветривать, затаскивать на чердак для просушки и пр. Теперь труд по выбиванию и проветриванию взял на себя папа, который пусть с усилием, но один поднимал даже больший ковер. Тогда он сказал: «Видишь, как хорошо, что твоя мудрая бабушка догадалась их спрятать от немцев, а то что бы мы сказали Янкелевичам, когда они приедут? Вот бы опозорились! Думаешь, все немцы такие, как наш Коннон? (Он всегда говорил о нем «наш». –