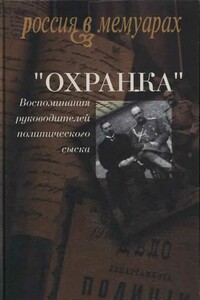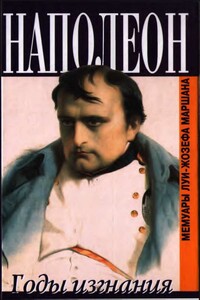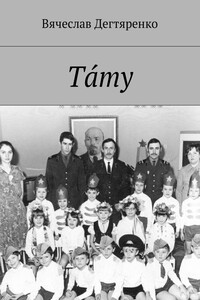«Печаль моя светла…» | страница 3
Есть еще очень раннее воспоминание, как кажется, тоже в чем-то соотносимое с этими двумя.
Я и Коля (брат, старше на три года) лазаем под стоящий на стульях гроб с цветами и тут же быстро оттуда вылезаем. Чуть ли не наперегонки. Никакого тяжелого чувства от смерти и горя в доме совершенно не помню. Происходит это в большой и залитой солнцем комнате с натертым паркетом (то есть, как я теперь понимаю, в бывшем зале – с камином и изразцовой печью). Сейчас не могу объяснить, почему и сколько времени гроб стоял не на столе, а на стульях. Откуда явилась наша такая неуместная резвость? Неужели взрослые так нас оберегали и скрывали свою скорбь… Ведь гроб этот мог принадлежать только одному человеку – моей прабабушке Марии Александровне, о которой сказать, что мои родители очень любили ее, – это ничего не сказать. Для моей матери это был самый близкий человек. Для меня она была крестной и любимой «старенькой бабушкой». Для моего отца, сравнительно недавно вступившего в семью (а это, как я теперь понимаю, было тогда для него гражданским поступком), была очень уважаемым личным другом, общение с которым началось еще в годы его работы в Москве (точнее – в Отраде, бывшем подмосковном имении графа Орлова-Давыдова, ныне попавшем в черту города). В родовом альбоме сохранился его показательный экспромт в день своей свадьбы:
Поскольку Мария Александровна умерла 9 сентября 1939 года, то я тогда была в возрасте 2 года и 3 месяца. Совсем не помню, чтобы нас кто-либо останавливал или упрекал в чем-то…
Но, возможно, и этот блик памяти мелькает как более позднее раскаяние за глупую и неуместную резвость.
Так как же рождается самосознание? В проявлении собственной воли? В противостоянии родительским запретам? Хотелось бы думать, что оно рождается с появлением совести. Интересно проверить по отблескам детства в памяти других людей…
Первые радости
Именно с подачи других людей знаю, что росла более всего «папиной дочкой», поскольку он вообще всегда любил возиться с малышами. Говорят, что, заслышав его шаги, я сразу комично впадала в рев в ожидании его вопроса: «Кто мою кукушечку обидел?» В ответ он слышал мой скулеж о всех крупных и мелких обидах со стороны многочленного разновозрастного семейства. Папа активно выражал сочувствие и все жалобы принимал себе на грудь, утешая меня. В заключение отчета я садилась за стол вместе с ним и в который раз уплетала обед или ужин, как будто лишь «бежала через мосточек, ухватила зеленый листочек», как та коза-дереза, которая чуть позже очень возмущала меня своим бесстыдством. Вообще плохим аппетитом никогда, мягко выражаясь, не страдала и любила составить за столом компанию любому опоздавшему. Например, Марине – моей младшей тетке с маминой стороны, которая нас с Колей очень любила и с нами без конца возилась. Сохранились фотографии с нею и с моими перевязанными мишками, пупсиками: видимо, ее медицинская специализация воплощалась в моих игровых фантазиях. Но именно Марина ревниво усматривала бόльшую отцовскую склонность к «кукушечке» по сравнению с Колей, хотя моих обоих родителей это только смешило. Сейчас думаю, что на Марину влияло более всего не совсем педагогичное поведение нашего отца: уж слишком шумно и часто восторгался он моей ранней бойкостью, с которой я сдвигала стулья для «сцены», карабкалась на них и громким четким голосом, еще не выговаривая всех звуков, зато копируя отцовский ритм и интонации,